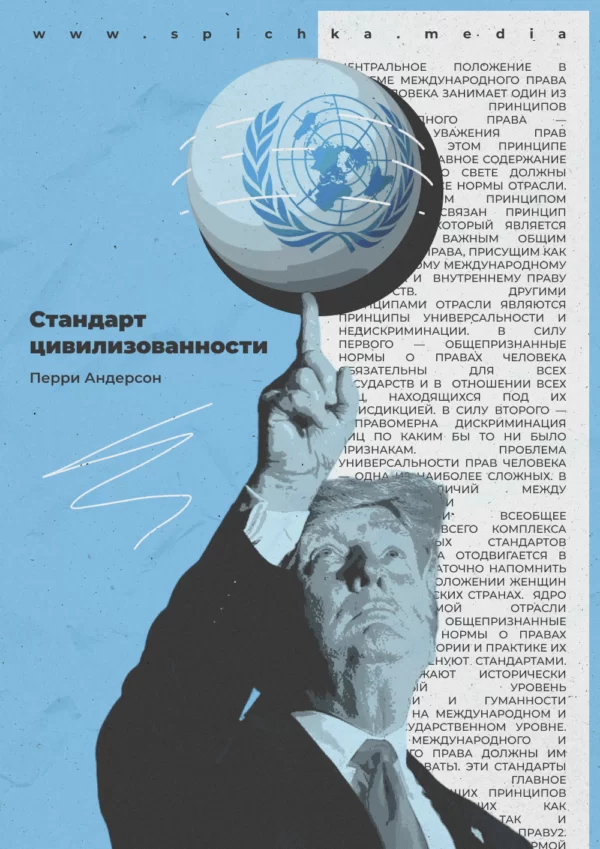Впервые на русском — статья Перри Андерсона «Стандарт цивилизованности», журнал New Left Review, 2023 год
Перри Андерсон — британский историк, марксист; с середины XX века развивает и отстаивает марксизм на западе. Одну из его работ — «Переходы от античности к феодализму» — мы изучаем в кружках. Сейчас ему 86 лет.
В прошлом году Андерсон опубликовал в журнале New Left Review статью — The Standard of Civilization, или «Стандарт цивилизованности». В ней он раскрывает две идеи:
1) Международное право — это инструмент, который изобрели империалисты, чтобы эксплуатировать страны периферии;
2) Понятие «цивилизации» нужно, чтобы идеологически доказывать «нецивилизованность» стран, не входящих в европейский «мир».
Андерсон рассказывает о первых колониях, мировых войнах, СВО; объясняет, что права человека, ООН — не более чем орудия в руках капитала. Он прав, но кое в чём мы покритиковали его идеи в аннотации к переводу.
Аннотация «Спички» к переводу
В ноябре 2024 года на Валдайском формуе президент Путин заявил, что основа международного права меняется и угнетение одних стран другими уходит в прошлое. Президент выражает мысль государственной машины.
Из статьи Андерсона можно было бы сделать вывод, что проблема империализма — в отсутствии международных институтов и «справедливых» законов. Однако такой вывод можно сделать, только если понимать империализм как систему межгосударственных отношений и не брать в расчёт его экономическую природу.
Работа Андерсона начинается с рассуждения о «Смерти цивилизаций». В конце он вновь возвращается к этой мысли, указывая, что политики с помощью международного права скрывают пороки своей, мировой системы господства. Действительно, силы реакции пытаются представить дело так, будто бы сегодня одни цивилизации господствуют над другими — просто навязывая им разные «правила». На самом деле в мире существует одна господствующая «логика» — империализм, — которая и порождает в борьбе за прибыль произвол международного права.
В статье Андерсон не рассматривает отношения классов и производства, суть империализма. Вместо этого он описывает, как развивается его надстройка, которая выходит за рамки отношений внутри отдельных государств; описывает международную политику и право. Это и «плохо», и «хорошо», так как, с одной стороны, однобоко, а с другой — ново, ибо в марксизме мало кем изучается.
Политика — это концентрированная экономика, война — это концентрированная политика.
Пока остаётся господство капитала, любой международный институт будет трещать по швам под давлением военно-экономических блоков. Империализм не боится даже за человечество, когда это противоречит получению прибыли. И если мы не задумаемся о человечестве как о единой цивилизации, оно может погибнуть.
Перевод статьи «Стандарт цивилизованности»
PERRY ANDERSON
THE STANDARD OF CIVILIZATION
В 1929 году Люсьен Февр предложил первую систематическую оценку эволюции значений слова «цивилизация», от единичного идеала, который он датировал третьей четвертью XVIII века, до множественного факта, который он поместил в завершение наполеоновской эры. В 1944–45 годах он назвал свой последний курс лекций «Европа: становление цивилизации», а год спустя добавил слово «Civilisations» к «Économies et Sociétés» в названии самого журнала «Анналы». Перед самой смертью он написал острую заметку, в которой поддержал неприятие своим коллегой знаменитого изречения Валери о том, что нынешняя цивилизация осознала, наконец, свою смертность: «На самом деле, это не цивилизации смертны. Цивилизация всё так же уверенно течёт сквозь проходящие закаты […] Пресное издыхание пустослова»1Lucien Febvre, ‘Une Histoire de la civilisation’, Annales, October–December 1950, p. 492, reviewing Joseph Chappey’s Histoire générale de la civilisation d’Occident de 1870 à 1950.. Десятилетие спустя Фернан Бродель подтвердит: «Поль Валери утверждал в 1922 г.: «Цивилизации, мы знаем, что вы смертны». Он, конечно же, драматизировал. Смертными в истории могут быть только цветы и плоды, само же древо остаётся жить. Во всяком случае, его гораздо труднее уничтожить»2Бродель Ф. Грамматика цивилизаций, М.: Издательство «Весь Мир», 2008. — 552 с..
Насколько оправданной была уверенность Броделя в том, что употребление этого термина в единственном числе уже не так значимо? Один из ответов лежит в той области мысли и практики, где «цивилизация» исторически была чётко определена — в международном праве.
Для начала отметим то, что может показаться парадоксальным. Современное понятие международного права ассоциируется с отношениями суверенных государств. На Западе принято считать, что эти отношения впервые сложились в нечто похожее на формальную систему с Вестфальским договором, который в 1648 году положил конец Тридцатилетней войне. Казалось бы, логично предположить, что вокруг этого поворотного момента должна была возникнуть развитая мысль о международном праве. Однако на самом деле, чтобы определить его истоки, необходимо вернуться в 1530-е годы. Именно тогда началась настоящая история международного права — в трудах испанского богослова Франсиско де Витории, которого волновали отношения не между государствами Европы, среди которых Испания в то время была самым могущественным, а между европейцами (в первую очередь, конечно, испанцами) и народами недавно открытых Америк.
Основания
Опираясь на римские представления о jus gentium, или праве народов, Витория спрашивал, по какому праву Испания недавно вступила во владение большей частью Западного полушария. Потому ли, что эти земли были необитаемы, или потому, что Папа Римский выделил их Испании, или потому, что дóлжно обращать язычников в христианство силой, если потребуется? Витория отверг все эти основания для завоевания Нового Света. Следовало ли из этого, что оно противоречит «праву народов»? Нет, поскольку, когда испанцы прибыли на их земли, дикие обитатели Америк нарушили всеобщее «право на сообщение» (jus communicandi), сущностный принцип «права народов». Что означает это «сообщение»? Свободу перемещения, свободу купли-продажи, где угодно: другими словами, свободу торговать и убеждать, то есть проповедовать христианские истины «индейцам», как их назвали испанцы. Раз индейцы сопротивляются этим правам, значит, испанцы вправе защищаться силой, строить крепости, захватывать земли и нести военное возмездие. Если индейцы упорствуют в своих злодеяниях, с ними следует обращаться как с коварными врагами, подлежащими грабежу и порабощению.3Francisco de Vitoria, Relecciones sobre los Indios [1538/9], Madrid 1946, i, 3: 1, 2, 6, 7, 8.
Завоевание Америк было, таким образом, совершенно правомерным.
Следовательно, первый настоящий краеугольный камень того, что ещё двести лет будет называться «правом народов», был заложен как оправдание испанского империализма. Второй, ещё более влиятельный, появился в трудах Гуго Гроция в начале XVII века. Сегодня Гроция в основном помнят и восхищаются им благодаря его трактату «О праве войны и мира» (De jure belli ac pacis), написанному в 1625 году. Но его фактическое вхождение в международное право, как мы теперь понимаем, началось с текста, который стал известен как «Комментарии о праве добычи» (De jure praedae commentarius), написанного двадцатью годами ранее. В этом документе Гроций изложил юридическое обоснование захвата капитаном голландской Ост-Индской компании, одним из его двоюродных братьев, португальского корабля с медью, шёлком, фарфором и серебром на сумму в три миллиона гульденов, что сопоставимо с общим годовым доходом Англии того времени. То был акт грабежа беспрецедентного масштаба, вызвавший сенсацию в Европе. В пятнадцатой главе, впоследствии опубликованной под названием Mare Liberum — «Свободное море» — Гроций объяснил, что открытое море должно рассматриваться как свободная зона как для государств, так и для вооружённых частных компаний, и его кузен был вполне в своём праве — таким образом, он дал грамоту голландскому торговому империализму, как Витория — испанскому территориальному.
К тому времени, когда Гроций пришёл к написанию «О праве войны и мира» два десятилетия спустя, голландцы заинтересовались колониями и на суше, вскоре захватив у Португалии часть Бразилии. Теперь Гроций утверждал, что европейцы имеют право вести войну против любых народов, чьи обычаи считают варварскими, даже если те не нападают на них — в качестве возмездия за их преступления против природы. Это было jus gladii — право меча, или право наказания.
Он писал: «Короли и те, кто наделён властью, равной королевской, имеют право наказывать не только за преступления, совершённые против них самих или их подданных, но и за те, которые не касаются их самих, но в любом случае являются грубыми нарушениями законов природы или народов»4Гроций Г. О праве войны и мира [Электронный ресурс] Ладомир, 1994. URL: https://grachev62.narod.ru/huig_de_groot/content.html. Другими словами, Гроций давал разрешение нападать, завоёвывать и убивать всех, кто стоял на пути европейской экспансии.
К этим двум краеугольным камням международного права раннего Нового времени, jus communicandi и jus gladii, добавились ещё два обоснования для колонизации мира за пределами Европы. Томас Гоббс предложил демографический аргумент: людей было так много дома и так мало за границей, что европейские поселенцы в землях охотников-собирателей имели право не «…истреблять тех, кого они там найдут; но заставлять их жить ближе друг к другу и не занимать много места, чтобы урвать то, что они найдут»5Томас Гоббс. Левиафан. [Электронный ресурс] URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs_Leviafan.pdf — согласно этому принципу были созданы резервации, в которые загнали коренных жителей Северной Америки.
Очевидно, что если бы земли можно было просто признать незанятыми, то и в этом не было бы необходимости. К широко распространённому мнению Гоббса, Джон Локк добавил ещё один аргумент: если на территории есть местные жители, но они не могут наилучшим образом использовать свою землю, то европейцы имеют полное законное право лишить их её, поскольку они выполнят Божий замысел, повысив продуктивность почвы.6Джон Локк. Два трактата о правлении. [Электронный ресурс] Книга 2, п. 32–46 URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_Traktaty_2.pdf
К концу XVII века репертуар оправданий для европейской имперской экспансии был завершён; права на сообщение, наказание, оккупацию и производство оправдывали захват всей остальной планеты.
Только для цивилизованных
К XVIII веку отношения между государствами внутри Европы стали предметом обсуждения в трудах по международному праву, и представители Просвещения — в том числе Дидро, Смит, Кант — ставили под сомнение нравственность колониальных захватов земель за пределами Европы, хотя реально никто не предлагал обратить их вспять. Характерно, что самый влиятельный из новых трактатов, «Право народов», был написан швейцарским мыслителем Эмером де Ваттелем. В нем Ваттель хладнокровно заметил: «Земля принадлежит всему человечеству и была создана для того, чтобы обеспечивать его средствами к существованию: если бы каждая нация с самого начала решила присвоить себе обширную страну, чтобы люди могли жить только охотой, рыболовством и дикорастущими плодами, нашего земного шара было бы недостаточно для того, чтобы содержать десятую часть его нынешних обитателей. Поэтому мы не отступаем от естественной природы вещей, ограничивая индейцев более узкими рамками»7Ваттель Э. Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов. — М.: Госюриздат, 1960..
Развивая в этом отношении предшествующие идеи, работа Ваттеля тем не менее ознаменовала поворот дискурса в сторону более светской версии установленных Богом законов природы, которые оправдывали более ранние версии международного права. Религия, никоим образом не исчезая, перестала быть первоочерёдным мандатом на колонизацию неевропейского мира. Эта роль перешла к другой идее.
Трактат Ваттеля был опубликован в 1758 году. Всего за год до этого, в 1757, в тексте Мирабо-отца впервые прослеживается употребление существительного «цивилизация» — его не было в актуальном томе «Энциклопедии», который вышел в 1753. Через несколько лет Адам Фергюсон независимо ввёл этот термин в Шотландии.
Успех работы Ваттеля, в основном касающейся отношений между европейскими государствами, но охватывающей и их отношения с остальным миром, был неотделим от времени её написания. Она вышла в разгар первого конфликта — Семилетней войны Франции против Великобритании, — который проходил не только в Европе, но и в Северной Америке, Карибском бассейне, Индийском океане и Юго-Восточной Азии, что, в свою очередь, стало генеральной репетицией титанической борьбы внутри Европы и конфликтов по всему миру, вызванных Французской революцией.
К тому времени, когда они закончились победой стран Священного союза над Наполеоном в 1815 году, произошло три существенных изменения в том, что когда-то было международным правом. В 1789 году, критикуя двусмысленность формулы — не является ли jus gentium неправильным названием для jus inter gentes?— Иеремия Бентам ввёл термин «международное право», который постепенно утвердился в следующем столетии.
К тому времени нормативной разделительной линией между Европой и остальным миром стала «цивилизация», а не христианская религия, хотя последняя оставалась жизненно важным атрибутом первой.
Наконец, во втором десятилетии XIX века, когда Ваттель в соответствии с дипломатическими конвенциями того времени признал номинальное равенство суверенных государств, Венский конгресс впервые ввёл формальную иерархию государств в Европе, различие в рангах между пятью «великими державами» — так называемой пентархией Англии, России, Австрии, Пруссии и Франции, которым были предоставлены особые привилегии и которые установили карту континента, — и прочими государствами. Это было новшество, призванное укрепить единство контрреволюционной коалиции, которая разгромила Наполеона и восстановила монархии по всей Европе. Но оно пережило сам период Реставрации. К 1880-м годам ведущий шотландский юрист Джеймс Лоример смог заметить, что равенство государств «теперь, можно с уверенностью сказать, отвергнуто историей», а разум — «более очевидная выдумка, чем равенство всех индивидов»8James Lorimer, The Institutes of the Law of Nations: A Treatise of the Jural Relations of Separate Political Communities, Edinburgh and London 1883, Vol. i, pp. 44, 170..
Вместе с этими изменениями международное право стало профессией наряду с классической дипломатией. Первое важное заявление в этой области было сделано бывшим американским послом в Пруссии Генри Уитоном, чьи «Элементы международного права», опубликованные в 1836 году, были широко переведены за рубежом — на французский, немецкий, итальянский, испанский языки, а к 1860-м годам и на китайский — и стали эталоном для определения дисциплины. Цитируя Гроция, Лейбница, Монтескьё и других, Уитон объяснил, что, за немногими исключениями, «публичное право народов всегда было и остаётся ограничено цивилизованными и христианскими народами Европы или лицами европейского происхождения», поскольку именно «прогресс цивилизации, основанный на христианстве», привёл к его провозглашению. К тому времени, когда в 1873 году в Брюсселе был создан первый Международный институт права, связь с религией уже не требовалась: было достаточно цивилизованности.9Henry Wheaton, Elements of International Law, London 1836, pp. 16–17, 21.
Классификации
Это был стандарт, который в период вторжения европейского империализма разделял мир уже не на земли слабых противников — охотников-собирателей или государства без огнестрельного оружия, как это было во время Гроция, а на крупные государства, азиатские империи и другие развитые государства, более способные защитить себя. Этот экспансионистский всплеск начался уже во время самих наполеоновских войн, когда британцы захватили большую часть Индии времён Великих Моголов и маратхов, а французы оккупировали османский Египет. После 1815 года он заметно обострился, приведя к опиумным войнам в Китае, морскому проникновению в Японию, завоеванию Бирмы, Индокитая и большей части территории современной Индонезии, не говоря уже обо всём побережье Северной Африки, неоднократным вторжениям в Афганистан и многому другому.
Как следует определять эти государства и как с ними обращаться? Наделены ли они теми же правами, что и европейские державы? Венский конгресс негласно дал свой ответ: Османская империя была отстранена от участия в «Концерте держав», который породил его решения, где этот «концерт» в конечном итоге потерпел крах. Это исключение всё ещё может быть отнесено к разнице в религиях. Вместо этого в последующие десятилетия была разработана доктрина «стандарта цивилизованности». Только те государства, которые в глазах европейцев можно было считать цивилизованными, имели право на равное отношение относительно европейских держав.
Точно так же, как в настоящее время существует общепринятая иерархия внутри сообщества европейских наций, «нецивилизованный» мир также был разделен на различные категории.
Лоример провёл наиболее систематическое теоретизирование этой новой доктрины, которая в то время стала общепринятой в литературе по международному праву. Три типа государств не соответствовали стандарту цивилизованности. Существовали преступные — те, что сегодня назвали бы государствами-изгоями, такими как Парижская коммуна или фанатичные мусульманские общества: если бы Россия стала жертвой нигилизма, она присоединилась бы к их рядам. Были государства «полуварварские», которые не бросали вызов цивилизованным европейским нормам таким же образом, но и не воплощали их в жизнь, как Китай или Япония.
Существовали также государства, находящиеся в состоянии маразма или слабоумия, к которым вообще нельзя было относиться как к ответственным субъектам, — то, что сегодня назвали бы «несостоявшимися государствами». Ни одна из этих категорий не являлась частью собственно международного сообщества, а первая и третья требовали вооружённого подавления с его стороны — «Коммунизм и нигилизм запрещены международным правом», — объяснил Лоример. Но со второй группой, полуварварскими народами, можно было поддерживать дипломатические отношения при условии, что европейские державы приобретут экстерриториальные права на их территории10Lorimer, Institutes, pp. 123–33, 155–61..
Лоример писал накануне конференции в Берлине в 1884 году, которая решила судьбу Африки, как когда-то Венский конгресс решил судьбу Европы, разделив обширную колониальную добычу между собравшимися европейскими государствами. Из них самая крупная добыча была приобретена страной, где зарождалась дисциплина международного права, в форме частной компании, контролируемой королем Бельгии. В Брюсселе Международный институт права отпраздновал это приобретение, опубликовав в 1895 году в своём журнале заявление о том, что при правлении Леопольда существовал «полный свод законов, применение которых защищает коренные народы от всех форм угнетения и эксплуатации».11Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960, Cambridge 2001, p. 160. Число смертей, вызванных его правлением в Конго, оценивается по-разному: по некоторым данным, погибло от 8 до 10 миллионов человек.
На рубеже веков пять азиатских государств — Китай, Япония, Персия, Сиам и Турция — перешли от полуварварского статуса к участию в первой Гаагской мирной конференции, созванной русским царём в 1899 году, наряду с девятнадцатью европейскими странами, Соединёнными Штатами и Мексикой. Означало ли это новую перестановку сил? На второй Гаагской конференции 1907 года, созванной на этот раз Теодором Рузвельтом, число участников было расширено за счёт включения республик Южной и Центральной Америки и монархий Эфиопии и Афганистана. Ключевым предложением, вынесенным на рассмотрение конференции, было создание Международного арбитражного суда. Кто должен был быть представлен в этом суде? Соединённые Штаты и крупнейшие европейские державы считали само собой разумеющимся, что они будут назначать постоянных членов, а другие государства просто будут занимать временные должности по ротации.
К их удивлению и негодованию, Бразилия в лице Руи Барбозы — выдающегося мыслителя и государственного деятеля, выступавшего против рабства — выступила с критикой англо-германо-американской схемы, заявив, что она предусматривает «правосудие, природа которого будет характеризоваться юридическим различием ценностей между государствами», гарантируя, что «тогда державы более не будут грозными только благодаря мощи своих армий и флотов. Они также будут превосходить в праве на международную судебную власть, присвоив себе привилегированное положение в институтах, которым мы якобы доверяем отправление правосудия в странах»12The Proceedings of the Hague Conferences, Vol. II, New York 1921, pp. 645, 647..
Твёрдо отстаивая принцип юридического равенства всех суверенных государств, Барбоза заручился поддержкой того, что один европейский наблюдатель назвал «охлократией малых государств» — классическим греческим термином, обозначающим правление толпы, — настаивая на том, что будущий Международный суд должен обеспечить равное, а не иерархическое представительство государств, призванных к участию в этом процессе. Естественно, Великие державы отказались признать это, и Конференция завершилась безрезультатно. Тщетность её номинальной цели — помочь обеспечить международный мир — стала очевидной семь лет спустя, с началом Первой мировой войны.
Принцип иерархии
В конце войны державы-победительницы — Англия, Франция, Италия и Соединённые Штаты — созвали Версальскую конференцию, чтобы продиктовать Германии условия мира, перекроить карту Восточной Европы, разделить Османскую империю и — что не менее важно — создать новый международный орган, занимающийся вопросами «коллективной безопасности», обеспечить установление прочного мира и справедливости между государствами в лице Лиги Наций. В Версале Соединённые Штаты не только позаботились о том, чтобы Руи Барбоза был исключён из состава бразильской делегации, но и о том, чтобы доктрина Монро — открытая презумпция господства Вашингтона над Латинской Америкой — была фактически включена в Пакт Лиги в качестве инструмента мирного урегулирования. В Гааге была создана Постоянная палата международного правосудия, статья 38 которой продолжает ссылаться на «общие принципы права, признанные цивилизованными странами». Среди тех, кто разработал её Устав, был автор 600-страничной работы в защиту замечательного опыта бельгийской администрации в Конго.
Сенат США в конечном итоге отклонил предложение о вступлении Америки в Лигу, но структура новой организации точно отражала требования победителей, поскольку её Исполнительный совет — предшественник сегодняшнего Совета Безопасности ООН — контролировался четырьмя другими великими державами, победившими в войне, — Великобританией, Францией, Италией и Японией, которым было предоставлено исключительное право постоянного членства в нём — по образцу американской схемы на Гаагской конференции 1907 года. Столкнувшись с таким вопиющим навязыванием Лиге иерархического порядка, Аргентина с самого начала отказалась принимать в ней участие, а несколько лет спустя Бразилия, когда её требование о предоставлении латиноамериканской стране постоянного места в Совете было отклонено, вышла из него. К концу тридцатых годов не менее восьми других латиноамериканских стран, больших и малых, вышли из неё. Несмотря на это, в ведущем учебнике того времени по международному праву, который широко используется и по сей день, авторство которого принадлежит Лассе Оппенгейму и Гершу Лаутерпахту, с удовлетворением отмечается, что «великие державы являются лидерами Семьи наций, и каждый прогресс в области международного права в прошлом был результатом их политической гегемонии», которая теперь, наконец, впервые получила в Совете Лиги официальное «юридическое обоснование и выражение»13Lassa Oppenheim, International Law (fifth edition), London 1937, pp. 224–25..
Лаутерпахт, чьи достижения, по общему мнению, не превзошёл ни один юрист-международник прошлого века, остаётся эталоном либеральной юриспруденции и в этом веке. Он не принимал во внимание аргументы, что такие державы, как США или Великобритания, ведут себя неподобающим образом, когда это им выгодно. «Действительно ли мы сталкиваемся, — спросил он об американской внешней политике, — с примерами явно аморального поведения, которые заставят рядового гражданина покраснеть?» Аннексия Панамы от Колумбии, возможно, и была незаконной, но можно ли её назвать аморальной? Или же это был случай, когда «…государство в отсутствие международного законодателя было призвано действовать в качестве оного на благо международного сообщества в целом. Вопрос заключался в том, следует ли государству, которому посчастливилось владеть данной территорией, откладывать или препятствовать осуществлению благотворного и цивилизованного начинания». Британская бомбардировка Копенгагена, столицы миролюбиво нейтральной Дании, в 1807 году и уничтожение её флота? Если бы «на карту было поставлено само существование Великобритании», такое внезапное нападение «не противоречило бы ни международному праву, ни международной морали», поскольку «закон и мораль могут быть на законных основаниях подчинены интересам международного сообщества»14Hersch Lauterpacht, International Law. Collected Papers. Vol II, The Law of Peace, Cambridge 1975, pp. 72–73, 83. (как это было с поражением Франции в 1815).
Лаутерпахт оставляет другим возможность продемонстрировать «разумность и прямолинейность» отношений его страны с человечеством в целом, придерживаясь принципов, без которых «она перестала бы быть частью цивилизованного мира». Но он мог «…с уверенностью заявить, что обзор внешней политики современных государств покажет, что безнравственность международного поведения является чем-то вроде мифа, вымысла». Такой вердикт не был наивно-оптимистичным. Международная судебная практика содержала некоторые пробелы, которые необходимо было восполнить. Но это не стало поводом для пессимизма: «Международное право следует рассматривать как незавершённое и находящееся в состоянии перехода к конечному и достижимому идеалу содружества государств с обязательным верховенством права, признанному и применяемому цивилизованными сообществами в пределах их границ»15Lauterpacht, International Law. Collected Papers. Vol ii, pp. 28, 73, 75, 19.. Конечной, вполне достижимой целью международного права стало появление наднациональной Всемирной федерации, выступающей за мир. Столь же возвышенный коллега Лаутерпахта Альфред Циммерн, ещё один атлант мысли Лиги, был, скорее, реалистом, признав в один прекрасный момент, что международное право — это не более чем «благопристойное название для удобства канцелярий», которое наиболее полезно, когда оно «воплощает гармоничный союз закона и силы»16Alfred Zimmern, The League of Nations and the Rule of Law (1918–1935), London 1977, pp. 94, 95..
Слово и меч
Такова была реальность в межвоенный период. После Второй мировой войны наступила новая эпоха. Когда большая часть континента лежала в руинах или погрязла в долгах, первенство Европы было утрачено. В 1945 году в Сан-Франциско была основана Организация Объединённых Наций, и принцип иерархии, унаследованный от Лиги, был сохранён в новом Совете Безопасности, постоянные члены которого получили ещё бóльшие полномочия, чем их предшественники в Исполнительном совете прошлого, поскольку теперь они обладали правом вето. Но монополия Запада на эту привилегию была нарушена: СССР и Китай теперь были постоянными членами, наряду с Соединёнными Штатами и ослабевшими Великобританией и Францией, и по мере ускорения деколонизации в течение следующих двух десятилетий Генеральная Ассамблея стала форумом для принятия резолюций и требований, которые становились всё более неудобными для гегемона и его союзников.
Обозревая обстановку в 1950 году, Карл Шмитт в своей замечательной ретроспективе «Номос Земли в международном праве», опубликованной в «Jus Publicum Europaeum», отметил, что в XIX веке: «Концепция международного права была специфически европейским международным правом. Это было очевидно на европейском континенте, особенно в Германии. Это также относилось к таким всемирным, универсальным понятиям, как гуманность, цивилизация и прогресс, которые определяли общие концепции, теорию и лексикон дипломатов. Вся картина оставалась европоцентричной до мозга костей, поскольку под “человечеством” понималось прежде всего европейское человечество, цивилизация — это, само собой разумеется, только европейская цивилизация, а прогресс — это линейное развитие этой цивилизации». Но, продолжал Шмитт, после 1945 года «Европа перестала быть священным центром земли», а вера в «цивилизацию и прогресс превратилась в простой идеологический фасад». «Сегодня», объявил он, «…прежний европоцентричный порядок международного права рушится. Вместе с этим исчезает старый номос земли, рожденный в результате сказочного, неожиданного открытия Нового мира, неповторимого исторического события».17Alfred Zimmern, The League of Nations and the Rule of Law (1918–1935), London 1977, pp. 94, 95.
Международное право никогда не было по-настоящему международным. То, что претендовало на универсальность, было всего лишь частным случаем. То, что выступало от имени человечества, было империей.
После 1945 года, как заметил Шмитт, международное право перестало быть детищем Европы. Но Европа, конечно, не исчезла. Она просто очутилась в зависимости от своей бывшей далёкой колонии — Соединённых Штатов, — оставив открытым вопрос: насколько международное право с 1945 года оставалось порождением уже не Европы, а Запада, во главе которого стояла американская сверхдержава? Любой ответ на этот вопрос ведёт к другому. Оставляя в стороне его историческое происхождение, какова юридическая природа международного права как такового? Для его первых теоретиков в Европе XVI и XVII веков ответ был ясен. Международное право основывалось на естественном праве, которое представляет собой набор указов, установленных Богом, и не подлежит сомнению ни одним смертным. Другими словами, христианское божество было гарантией объективности их юридических суждений.
К XIX веку растущая секуляризация европейской культуры постепенно подорвала доверие к этой религиозной основе международного права. На смену ему пришло утверждение, что законы природы всё ещё действуют, но уже не как божественные заповеди, а, скорее, как выражения универсальной природы человека, которые могут и должны признавать все разумные человеческие существа. Однако эта идея, в свою очередь, вскоре стала уязвимой из-за развития антропологии и сравнительной социологии как дисциплин, которые продемонстрировали огромное разнообразие человеческих обычаев и верований в истории и во всём мире, противоречащее любой такой простой универсальности.
Но если ни божественность, ни человеческая природа не могут служить надежной основой для международного права, то как же тогда его следует понимать?
Ответ на этот вопрос можно было искать только в другом вопросе: какова природа самого права? Там величайший политический мыслитель XVII — а возможно, и любого другого — века Томас Гоббс дал четкий ответ в латинской версии своего шедевра «Левиафан», вышедшего в 1668 году: Sed auctoritas non veritas facit legem — «Не истина, а власть устанавливает закон», или, как он выразился в другом месте: «Соглашения без меча — всего лишь слова».18Томас Гоббс. Левиафан. [Электронный ресурс] URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Gobbs_Leviafan.pdf Со временем это стало известно как «командная теория права». Эта теория была разработана два столетия спустя Джоном Остином, трезво мыслящим другом и последователем Бентама, который восхищался Гоббсом больше всех других мыслителей и, соглашаясь с тем, что «каждый закон — это приказ», понимал, что это значит для международного права. Его вывод был таков: «Так называемое международное право состоит из мнений или настроений, распространённых среди наций в целом. Следовательно, это не закон в собственном смысле этого слова… [ибо — прим. пер.] закон, установленный по общему мнению, влечёт за собой следующие последствия: сторона, которая будет применять его против любого будущего нарушителя, никогда ни определена, ни назначена»19John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, London 1832, p. 148..
Ключевые слова: определена и назначена. Почему так сложилось? Остин продолжал: «Из этого следует, что закон, действующий в отношениях между нациями, не является позитивным законом, поскольку каждый позитивный закон устанавливается данным сувереном для лица или лиц, находящихся в подчинении у автора», — но, поскольку в мире суверенных государств «…ни одно верховное правительство не находится в состоянии подчинения другому», следует, что международное право «…не содержит санкций и не налагает обязанностей в надлежащем понимании этих выражений. Ибо санкция, в собственном смысле этого слова, — это зло, связанное с приказом».20The Province of Jurisprudence Determined, pp. 208, 148–49. Другими словами, в отсутствие какого-либо определённого органа, способного выносить решения или обеспечивать их соблюдение, международное право перестаёт быть законом и становится не более чем мнением.
Этот вывод был и остаётся глубоко шокирующим для либерального мировоззрения подавляющего большинства современных юристов-международников.
О чём часто забывают, так это о том, что это мнение разделял величайший либеральный философ XIX века Джон Стюарт Милль, который дважды пересматривал и одобрял лекции Остина по юриспруденции. Отвечая на нападки на внешнюю политику недолговечной Французской республики, которая в 1849 году предложила помощь восставшей Польше, он писал: «Что такое международное право? То, что вообще можно назвать законом, является неправильным применением этого термина. Международное право — это просто обычай народов». Милль задался вопросом: «Были ли это единственные обычаи, которые в век прогресса не подлежат никакому совершенствованию? Только они должны оставаться неизменными, в то время как всё вокруг них изменчиво?» Напротив, он заключил решительно, в духе, который одобрил бы Маркс: «Законодательный орган может отменять законы, но нет Конгресса наций, который отменял бы международные обычаи, и нет общей силы, с помощью которой решения такого конгресса были бы обязательными для исполнения. Повышение международной нравственности может произойти только путём серии нарушений существующих правил… [там, где. — прим. пер.] существует только обычай, единственный способ изменить его — действовать ему вопреки».21J. S. Mill, Collected Works, Vol. XX, pp. 345–46.
Двойная неопределённость
Милль писал в духе революционной солидарности, в то время, когда международное право было не более чем благочестивой фразой, на которую ссылались правительства для оправдания любых действий, которые их устраивали, — оно не имело институционального измерения, а юристов-международников ещё не существовало. В начале 1880-х годов Солсбери всё ещё мог прямо заявить парламенту: «Международного права в том смысле, в каком обычно понимается термин “закон”, не существует. Как правило, это зависит от предубеждений авторов учебников. Оно не может быть приведено в исполнение никаким судом».22Alfred Zimmern, The League of Nations and the Rule of Law (1918–1935), London 1977, pp. 94, 95. Однако столетие спустя институционализация шла полным ходом; существовал Устав Организации Объединённых Наций, Международный суд, группа профессиональных юристов и расширяющаяся академическая дисциплина. Начиная с 1940-х годов, в обширной литературе — Ханс Кельзен и Герберт Харт, наиболее известные имена, — предпринимались попытки опровергнуть Остина, указывая на все те аспекты права, муниципального или международного, которые нельзя назвать предписаниями.23Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge ma 1945, pp. 30–37, also 62–64, 71–74, 77–83; H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1961, pp. 18–79, pp. 208–31; Terry Nardin, Law, Morality and the Relations of States, Princeton 1983, pp. 116–86. Тщетно, поскольку ни один автор так и не смог показать, что они могут освободить закон от суверенной власти, способной обеспечить его соблюдение в случае нарушения, что является — не исчерпывающим, но всегда необходимым условием его существования в качестве закона. Всё остальное, как выразился Остин, всего лишь метафора.
В межвоенный период именно Карл Шмитт, полная противоположность либеральному мыслителю, вновь указал на обоснованность доводов Остина. В резкой критике на притязания Лиги Наций и её Международного суда Шмитт продемонстрировал, что беспристрастное верховенство закона, которое они якобы поддерживали, было неизменно неопределённым, как и предсказывал Остин. И это вдвойне важно: неопределённость в отношении его содержания — как в случае с совершенно неограниченными репарациями, наложенными на Германию в Версале, которые державы-победительницы могли корректировать по своему усмотрению в свою пользу; а конкретику исполнения определяло решение командующих держав Лиги Наций и её суда 24Carl Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar–Genf–Versailles. 1923–1939, Berlin 1988, p. 3.. Доктрина «невмешательства», с помощью которой Англия и Франция обеспечили победу фашизма в Испании, представляет собой ещё один классический пример такой неопределённости, наиболее красноречиво иллюстрирующий знаменитое высказывание Талейрана о том, что «…невмешательство — это метафизический термин, который означает более или менее то же самое, что и интервенция».
Сутью международного права, которое появилось на свет после 1918 года и эволюцией которого мы живем по сей день, было то, что Шмитт назвал его фундаментально дискриминационным характером.25Carl Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin 1988, p. 41 et seq.
Если войну начинала доминантная в системе держава — тó был самоотверженный поступок в поддержку международного права. Войны, развязанные кем-то ещё, были преступными предприятиями, нарушающими международное право.
То, что они запрещали другим, либеральные державы оставляли за собой право делать самим. Исторически сложилось так, отметил Шмитт, что давнее поведение Соединённых Штатов в Карибском бассейне и Центральной Америке заложило эту модель действий.
Практика
Мир, в котором мы сейчас живём, свидетельствует широкому распространению того, что считается международным правом, что расширяет утверждение Шмитта в двух направлениях. С одной стороны, появилась категория права, которая настолько точно отражает характеристику международного права, данную Остином, что он сам едва ли мог бы о ней мечтать: понятие права, которое, выражаясь техническим языком, «не подлежит защите в судебном порядке», то есть которое даже не претендует на то, чтобы иметь какую-либо силу исполнения в реальном мире, оставаясь просто номинальным стремлением, — другими словами, мнением в чистом виде, в терминах Остина, которое тем не менее торжественно именуется юристами правом. С другой стороны, число действий, предпринимаемых ведущими державами по своему усмотрению, либо во имя международного права, либо вопреки ему — неограниченная неопределённость, — увеличилось в геометрической прогрессии.
Агрессия теперь не является монополией гегемона.
Захватнические войны развязывались без консультаций, в тайном сговоре или в прямом столкновении с ним: Англия и Франция против Египта, Китай против Вьетнама, Украина и СВО; не говоря уже о более мелких конфликтах: Турция против Кипра, Ирак против Ирана, Израиль против Ливана. Ни одно из таких действий не освобождает от строгих исторических вердиктов. Однако такое решение всегда несёт политический, а не юридический характер. С 1945 года войны такого рода, в качестве одного из предполагаемых оправданий, редко, если вообще когда-либо (в 1956 году англо-французские попытки не увенчались успехом в Вашингтоне), ссылались на международное право. Это прерогатива гегемона и его помощников в любой совместной операции.
Достаточно привести несколько примеров. Соединённые Штаты систематически нарушали принципы, лежащие в основе высшего официального воплощения международного права, а именно Организации Объединённых Наций, Устав которой закрепляет суверенитет и неприкосновенность ее членов. На военной базе в старом испанском форте, в нескольких милях от места проведения первой конференции, на которой в 1945 году в Сан-Франциско была создана Организация Объединённых Наций, специальная группа военной разведки США перехватывала все сообщения делегатов по кабелю, передаваемые в их родные страны; расшифрованные сообщения оказались на столе госсекретаря США Стеттиниуса на следующее утро. Сотрудник, ответственный за эту круглосуточную слежку, сообщил, что «…в Отделе сложилось впечатление, что успех Конференции во многом зависит от его работы».26Stephen Schlesinger, Act of Creation: The Founding of the United Nations, Boulder 2003, p. 331.
Что здесь означало достижение успеха? Американский историк, описывающий этот систематический шпионаж, ликует, что «Стеттиниус руководил предприятием, которое его нация сформировала и наставляла», поскольку ООН «…с самого начала была проектом Соединённых Штатов, разработанным Государственным департаментом, умело направляемым двумя президентами-практиками и продвигаемым американскими силами… Для нации, по праву гордящейся своими бесчисленными достижениями», — последнее из которых — сброс атомных бомб на Японию — «…уникальное достижение всегда должно быть на первом месте в списке её выдающихся достижений».27Schlesinger, Act of Creation, pp. 174, XIII.
Шестьдесят лет спустя ситуация не изменилась. Конвенция ООН 1946 года гласит: «Помещения Объединённых Наций неприкосновенны. Имущество и актив Объединённых Наций, где бы и в чьём бы распоряжении они ни находились, не подлежат обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации и какой-либо другой форме вмешательства путём ли исполнительных, административных, судебных, законодательных или иных действий». В 2010 году выяснилось, что жена Клинтона, занимавшая в то время пост госсекретаря, дала указание ЦРУ, ФБР и Секретной службе взломать системы связи Генерального секретаря ООН, присвоив пароли и ключи шифрования, а также послов всех четырёх других постоянных членов Совета Безопасности, и обеспечить сохранность биометрических данных, номеров кредитных карт, адресов электронной почты и даже номеров телефонов «…ключевых должностных лиц ООН, включая заместителей секретаря, глав специализированных учреждений и главных советников, помощников генерального секретаря, руководителей миротворческих операций и политических миссий на местах»28Данное указание было отдано в 2009 году.. Естественно, ни госпожа Клинтон, ни американское государство не заплатили никакой цены за своё наглое нарушение международного закона, который якобы защищает саму ООН, официальную резиденцию такого закона.
А как же международная справедливость, которую призвано поддерживать международное право? Токийский трибунал 1946-48 годов, организованный Соединёнными Штатами для суда над военачальниками Японии за военные преступления, исключил императора Сева из процесса, чтобы оправдать американскую оккупацию страны, и обращался с доказательствами с таким пренебрежением к надлежащей правовой процедуре, что индийский судья, участвовавший в трибунале, написал ярое тысячестраничное обвинение, отметив, что токийские судебные процессы были не более чем «возможностью для победителей отомстить», заявив, что «преступлением является только проигранная война».29Radhabinod Pal, Dissentient Judgement, Tokyo 1999. Голландский судья Трибунала откровенно признался: «Конечно, в Японии мы все знали о взрывах и поджогах Токио, Иокогамы и других крупных городов. Это было ужасно, что мы отправились туда с целью отстаивания законов войны, и всё же каждый день видели, как союзники их чудовищно нарушали»30B. V. A. Röling, The Tokyo Trial and Beyond, Cambridge 1993, p. 87. — буквально дискриминационная концепция закона по Шмитту. Последовавшие за этим американские войны в Восточной Азии, сначала в Корее, а затем во Вьетнаме, как показали американские историки, изобиловали всевозможными зверствами.
Естественно, ни один трибунал никогда не привлекал их [американцев. — прим. пер.] к ответственности.
Сильно ли что-то изменилось с тех пор? В 1993 году Совет Безопасности ООН создал Международный уголовный Суд по Югославии для судебного преследования лиц, виновных в военных преступлениях, приведших к распаду страны. Тесно сотрудничая с НАТО, главный прокурор Канады добился того, что успешные обвинения в этнических чистках были предъявлены сербам, которые были объектом враждебности США и ЕС, но не хорватам, которых вооружали и обучали США для их собственных операций по этнической чистке. Когда НАТО начало войну с Сербией в 1999 году, суд исключил такие его действия, как взрыв китайского посольства в Белграде, из своего расследования военных преступлений. Это было совершенно логично, поскольку, как объяснил в то время представитель НАТО по связям с прессой, «Именно страны НАТО учредили Суд и на ежедневной основе финансируют и поддерживают его».31James Shea, 17 May 1999. Так США и их союзники в очерёдной раз использовали судебные процессы для привлечения к уголовной ответственности своих побеждённых противников, в то время как их собственное поведение оставалось вне поля зрения суда.
Как последнее проявление той же тенденции, в настоящее время действует Международный уголовный суд: в 2002 году он был создан по настоянию Соединённых Штатов, которые принимали непосредственное участие в его учреждении, а затем позаботились о том, чтобы самим не подпадать под юрисдикцию МУС. Когда, к великому гневу администрации Клинтона, проект Устава был изменён, чтобы сделать возможным судебное преследование членов даже того государства, которое его не подписало, что сделало американских солдат, пилотов, палачей и других потенциально уязвимыми для включения в мандат Суда, США незамедлительно подписали более сотни двусторонних соглашений со странами, где находились или ранее находились её военные, чтобы исключить любой подобный риск для американского персонала. Наконец, с характерным для него фарсом в свой последний день в Белом доме Клинтон поручил представителю США подписать Устав будущего Суда, прекрасно понимая, что у этого действия нет шансов на ратификацию в Конгрессе. Вполне естественно, что Международный уголовный суд, укомплектованный уступчивыми сотрудниками, отказался расследовать какие-либо действия США или Европы в Ираке или Афганистане, полностью сосредоточив своё внимание на странах Африки, в соответствии с негласным принципом: один закон для богатых, другой для бедных.
Ограничение прав
Что касается Совета Безопасности ООН, номинального хранителя международного права, то его послужной список говорит сам за себя. Иракская оккупация Кувейта в 1990 году привела к немедленным санкциям и ответному вторжению в Ирак миллионной армии. Израильская оккупация Западного берега продолжается уже полвека, а Совет Безопасности и пальцем не пошевелил. Когда США и их союзники не смогли добиться принятия резолюции, разрешающей им напасть на Югославию в 1998–1999 годах, они вместо этого использовали НАТО, что явным образом нарушило Устав ООН, запрещающий агрессивные войны, после чего генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, назначенный Вашингтоном, спокойно заявил миру, что хотя действия НАТО, может, и не законны, но они легитимны — как будто Шмитт специально написал свои слова, чтобы проиллюстрировать, что он имел в виду под основополагающей неопределённостью международного права. Когда четыре года спустя Соединённые Штаты и Великобритания начали своё наступление на Ирак и были вынуждены обойти Совет Безопасности ООН под угрозой вето со стороны Франции, тот же Генеральный секретарь задним числом вновь благословил операцию, убедившись, что единогласным голосованием Совет Безопасности прикрыл тыл Бушу и Блэру, проголосовав за помощь ООН в оккупации Ирака через Резолюцию № 1483. При развязывании войны можно обойтись без международного права, но оно всегда может пригодиться для ратификации такой войны после её начала.
Оружие массового уничтожения? Договор о нераспространении ядерного оружия является ярчайшей иллюстрацией дискриминационного характера мирового порядка, сложившегося со времён холодной войны, который оставляет за пятью державами право на обладание водородными бомбами и их развёртывание и запрещает обладание ими всем остальным — тем, кто может более нуждаться в них для своей обороны. Формально Международный договор является не обязательной нормой международного права, а добровольным соглашением, от которого любая подписавшая его сторона вольна отказаться. Фактически не только совершенно законный выход из Договора рассматривается как нарушение международного права, подлежащее самому суровому наказанию, как в случае с Северной Кореей, но даже соблюдение Договора может быть истолковано ограничительно, а при недостаточном контроле может быть подвергнуто возмездию, как в случае с драконовскими санкциями против Ирана: неопределённость и лицемерие элегантно сочетаются. О том, что Израиль игнорирует Договор и уже давно обладает огромным количеством ядерного оружия, можно даже не упоминать.
Державы, наказывающие Северную Корею и Иран, делают вид, что огромного израильского ядерного арсенала не существует, — возможно, это лучший комментарий к алхимии международного права из всех возможных.
Триумф единственного числа
Дискурс современной юридической дискриминации нередко определяет КНДР и Иран в категорию «стран-изгоев» (rogue state), что перекликается с классификацией «незаконных» режимов XIX века32Gerry Simpson, Great Powers and Outlaw States: Unequal Sovereigns in the International Legal Order, Cambridge 2004, passim.. Можно ли считать это случайным, непроизвольным анахронизмом, подобному статье 38 I (c) из Устава Международного суда в Гааге, воссозданного Организацией Объединённых Наций, продолжающей заявлять о своей приверженности принципам права, которые определяют цивилизованные нации, оставаясь в тени бюста Гроция? Это было бы ошибкой. Напротив, «стандарты цивилизованности», провозглашенные — что вполне уместно — вчера в Брюсселе, сегодня, напротив, обретают новую жизнь. Первым современным исследованием её прошлого, «Стандарт цивилизованности в международном обществе», мы обязаны американскому учёному, сотруднику Государственного департамента и лидеру мормонской церкви, который, критикуя использование подобных категорий для оправдания колониальных эксцессов в былые времена, тем не менее отметил их потенциал в обучении неевропейцев более высоким нормам морального поведения. Он рекомендовал два возможных пути развития этой идеи: новый «стандарт прав человека», введённый европейцами, или, как альтернативу, «стандарт современности», донесение благ цивилизации до всех в форме космополитичной культуры.33Gerrit Gong, The Standard of ‘Civilization’ in International Society, Oxford 1984, pp. 91–93.
Это было в 1984 году, и он стал провидцем. В новом столетии заведующий кафедрой в школе, названной в честь наставника бывшего госсекретаря Кондолизы Райс, объясняя, что «необходимо что-то вроде нового стандарта цивилизованности, чтобы спасти нас от варварства изначального суверенитета», провозглашает права человека — прежде всего в том виде, в каком они соблюдаются Европейским Союзом, — как этот стандарт; и главным его нарушителем — Палестинскую администрацию.34Jack Donnelly, ‘Human Rights: A New Standard of Civilization?’, International Affairs, vol. 74, no. 1, 1998, pp. 1–23. В качестве альтернативы ведущий американский специалист по терроризму и кибербезопасности предлагает более ощутимое обновление этого понятия. Планы структурной перестройки, навязанные МВФ слаборазвитым странам, являются современным эквивалентом просвещённых капитуляций прошлого, которые помогли Османам и другим странам стать «приемлемыми» государствами, продолжая их работу по «цивилизационной согласованности», необходимой для международного сообщества.35David Fidler, ‘A Kinder, Gentler System or Capitulations? International Law, Structural Adjustment Policies and the Standard of Liberal, Globalized Civilization’, Texas International Law Journal, vol. 35, January 2000, pp. 387–414. Ещё более амбициозно иранский учёный из Дании, осуждающий ислам как восточный тоталитаризм, объявил о появлении Глобального стандарта цивилизации — GSC — как путеводной звезды продвижения человечества к лучшему миру, набирающего обороты с каждым днём. «Мы живём — восклицает он, — в новый “гроцианский момент”, когда двумя столпами глобальной цивилизации являются “капитализм и либерализм”».36Mehdi Mozaffari, ‘The Transformationalist Perspective and the Rise of a Global Standard of Civilization’, International Relations of the Asia–Pacific, vol. 1, no. 2, 2001, pp. 259, 262.. Не остались в стороне и историки. Самый выдающийся и плодовитый современный историк Гарварда Найл Фергюсон, автор работ о банках Ротшильдов и Варбургов, Первой и Второй мировых войнах и истории денег, с невозмутимым апломбом восстанавливает «единственное число» в книге «Цивилизация: Запад и остальные» (2011), посвящённой объяснению всех причины, по которым первое одержало победу над вторым.
В своих работах, написанных на рубеже шестидесятых годов, Бродель подтвердил убеждённость Февра в том, что Валери ошибался: «Цивилизации — это реальность, существующая очень долго. Они не являются “смертными”, прежде всего, — вопреки слишком известной фразе Валери, — подобно нашим индивидуальным жизням. Несчастные случаи со смертельным исходом… происходят с ними гораздо реже, чем мы думаем. Во многих случаях они просто засыпают». Обычно погибают только «…их самые изысканные цветы, их редчайшие достижения, но их глубокие корни переживают многие разрывы, многие зимы».37Fernand Braudel, ‘L’Apport de l’histoire des civilisations’, in Gaston Berger, ed., Encyclopédie française, Vol. xx , Le Monde en devenir, Paris 1959, 12: 10. Может иметь место «расцвет цивилизации в единственном числе», но «Было бы ребячеством представлять, что это, помимо триумфа, покончит с различными цивилизациями, которые являются реальными персонажами, всё ещё противостоящими нам». Однако, что характерно, выводы Броделя были неоднозначными. В одном регистре единственное и множественное числа плодотворно взаимодействуют: «Множественное и единичное числа образуют диалог, дополняя друг друга и отличаясь друг от друга: иногда это можно заметить невооруженным глазом». На следующей странице делается совсем другое замечание: «Под разными названиями и на разных фронтах ведется слепая, жестокая борьба между цивилизациями. Задача состоит в том, чтобы укротить её, направить в нужное русло, навязать ей новый гуманизм», и «В этой беспрецедентной битве многие культурные структуры могут дать трещину, причём все сразу».38Braudel, ‘L’Apport de l’histoire des civilisations’, 12: 12–13.
Спустя полвека мы можем спросить, была ли цивилизация в единственном числе покорена цивилизациями во множественном числе, как он [Бродель. — прим. пер.] надеялся?
Феерия международного права свидетельствует об обратном. Бродель обладал широким и глубоким сравнительным пониманием материальной и культурной динамики человеческой истории, что дало ему непревзойдённое представление о различиях между цивилизациями. Гораздо менее интересуясь их политическими и идеологическими аспектами, он отождествлял цивилизацию в единственном числе — известную западную цивилизацию — слишком просто с «машиной»: по сути, технологией, которая, по его справедливому мнению, могла бы быть адаптирована любой из цивилизаций мира, сохранившихся до настоящего времени. Силе интеллектуального и институционального порядка Запада, не говоря уже о его военном превосходстве, он уделял меньше внимания.
Сила общественного мнения
Всё это, конечно, не означает, что международное право лишено какого-либо содержания, которое можно было бы с практической точки зрения рассматривать как универсальное. Достаточно принять во внимание тот факт, что ни одно государство в мире не обходится без апелляций к нему хотя бы потому, что все пользуются по крайней мере одной общепринятой конвенцией: дипломатическим иммунитетом своих посольств за рубежом, который соблюдается даже после объявления принимающей страной войны государству, которое посольство представляет. Это можно назвать минимальным содержанием международного права, по аналогии с приведением Хартом к такому же содержанию естественного права. Излишне говорить, что каждое посольство крупного государства, и большинство посольств государств поменьше, полны специалистов, которые постоянно занимаются шпионажем, не имея на то законных оснований в международном праве. Подобные несоответствия мало утешают теоретиков.
В заключение: по любой реалистичной оценке международное право не является ни истинно международным, ни подлинно правовым. Однако это не означает, что оно не является силой, с которой не следует считаться. Оно является важнейшей силой. Но его реальность такова, как описал её Остин: то, что в словаре, унаследованном им от Гоббса, он называл мнением, сегодня мы бы назвали идеологией. Там, в качестве идеологической силы в мире, стоящей на службе гегемона и его союзников, это грозный инструмент власти. Для Гоббса общественное мнение было ключом к политической стабильности или нестабильности королевства. Как он писал: «Ибо действия людей обусловлены их мнениями, и в хорошем управлении мнениями состоит хорошее управление действиями людей с целью водворения среди них мира и согласия» — таким образом, «Власть сильных мира сего не имеет иного основания, кроме как во мнении и вере людей».39Hobbes, Leviathan (English text), XVIII, p. 272; Behemoth, p. 16. Он считал, что гражданскую войну в Англии спровоцировали крамольные взгляды, и именно для того, чтобы привить правильные взгляды, он написал «Левиафан», который, как он надеялся, будет преподаваться в университетах, которые были «источниками гражданской и моральной доктрины», чтобы вернуть стране «общественное спокойствие».40Hobbes, Leviathan, ‘A Review and Conclusion’, p. 1140. Нам необязательно разделять степень уважения Гоббса к силе общественного мнения или даже его предпочтения среди мнений того времени, чтобы признать обоснованность того значения, которое он им придавал.
Международное право может быть мистификацией — но это не пустяк.
Как же тогда его следует понимать? Самый выдающийся современный юрист-международник, финский ученый Мартти Коскенниеми, называет международное право методом господства в грамшианском смысле. Для Грамши, отмечает он, осуществление гегемонии всегда предполагало успешное представление определённых интересов в качестве универсальной ценности. Именно к этому стремились создатели стандарта цивилизованности, чего и достигли, и с тех пор он прочно укоренился в словаре «международного сообщества». Международное право в этом смысле никогда не переставало быть инструментом евро-американской власти. Но именно потому, что оно предлагало якобы универсальный дискурс, его можно было присвоить и обратить вспять, отстаивая его в других, более широких и гуманных интересах.41Martti Koskenniemi, ‘International Law and Hegemony: a Reconfiguration’, in The Politics of International Law, Oxford 2011, pp. 221–22 et seq. В конце концов, даже на пике имперского высокомерия в XIX веке многие сопротивлялись стандартам цивилизации: «Аргумент, используемый в наше время… оправдание и маскировка грабежа более слабых рас — это уже не призыв религии, а призыв цивилизации: у современных народов есть цивилизаторская миссия, от выполнения которой они не могут отказаться», — писал скромный юрист из Бордо, Шарль Саломон, в 1889 году. Даже более радикальный, чем Бродель, он продолжал: «О цивилизации говорят так, как будто существует абсолют, состоящий всего из одного человека: все, кто так поступает, считают, что они имеют право на первое место в ней. Слегка изменив известное изречение Жозефа де Местра, мы вполне могли бы сказать: “Я знаю о цивилизациях, но я ничего не знаю о цивилизации“».42Charles Salomon, L’Occupation des territoires sans maître: Étude de droit international, Paris 1889, pp. 193, 195.
То есть, как отмечает Коскенниеми, современное международное право по своей сути пронизано противоречиями, и по мере того, как его современные инструменты для реализации воли сегодняшнего гегемона и его сателлитов становятся всё более наглыми, растёт и число критически настроенных юристов, которые не только ставят под сомнение, но и стремятся обратить вспять его имперское применение. Наиболее здравомыслящие люди делают это, не придавая своим требованиям больше силы, чем они могут воплотить. По словам выдающегося французского юриста, международное право является «перформативным»43Это прилагательное и то, что оно обозначает, Харт считал самой удачной находкой Дж. Л. Остина, аналитического философа, которого он исследовал в Оксфорде.. То есть такие заявления стремятся воплотить в жизнь то, к чему они призывают, а не отсылать к какой-либо существующей реальности, какой бы похвальной она ни была.
Та же диалектика, конечно, в большей степени характерна для муниципального права, к которому прибегают в Европе, по крайней мере с XVII века, для защиты слабых от сильных, которые его создали. Но здесь аксиома Остина имеет значение. В рамках национальных государств Европы, какими они стали, всегда существовал определённый суверен, уполномоченный обеспечивать соблюдение закона, и по мере того, как эта власть переходила от монарха к президенту, неслучайно появлялось и легитимное основание для его изменения. В отношениях между государствами, в отличие от отношений между гражданами, ни то, ни другое условие не выполняется. Таким образом, в то время как гегемония действует как на национальной, так и на международной арене и по определению всегда сочетает в себе принуждение и согласие, на международном уровне принуждение по большей части является законным решением, и согласие, которое обеспечивается, неизбежно слабее и ненадёжнее. Международное право стремится сократить этот разрыв. Коскенниеми начал свою карьеру с блестящей демонстрации двух полюсов, между которыми исторически перемещалась структура международно-правовой аргументации, под названием «От апологии к утопии»: либо международное право предоставляет раболепные предлоги для любых действий, которые пожелают предпринять государства, либо оно выдвигает высокое моральное видение самого себя, поскольку, по словам Хукера, «Её голос — гармония мира», не имеющая никакого отношения к какой-либо эмпирической реальности. Чего Коскенниеми не смог увидеть, так это взаимосвязи этих двух понятий: не утопии или апологии, а утопии как апологии: ответственности за защиту в соответствии с хартией за разрушение Ливии, сохранения мира за удушение Ирана, и так далее.
Тем не менее защитники международного права могут утверждать, что его существование, как бы часто государства ни злоупотребляли им на практике, по крайней мере, лучше, чем его отсутствие, ссылаясь на известную максиму Ларошфуко: «Лицемерие есть уважение к самому себе». Однако критики могут в равной степени ответить, что здесь всё должно быть наоборот. Разве это не должно звучать так: «Лицемерие — это подделка порока под добродетель, чтобы лучше скрыть порочные цели: произвольное применение власти сильными над слабыми, безжалостное преследование или провоцирование войны во имя мира»?
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
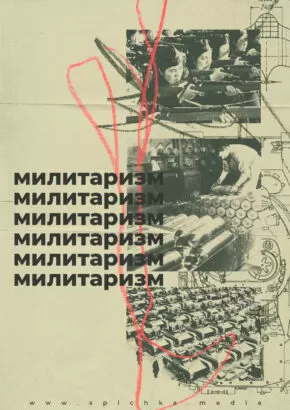 Адем Эльверен о милитаризме
Почему для государства танки и пушки важнее медицины и образования: перевели статью турецкого экономиста
Адем Эльверен о милитаризме
Почему для государства танки и пушки важнее медицины и образования: перевели статью турецкого экономиста
 Анна Луиза Стронг. Мы — советские жёны (1934)
Перевели статью американской коммунистки, в которой она сравнивает брак при капитализме и социализме
Анна Луиза Стронг. Мы — советские жёны (1934)
Перевели статью американской коммунистки, в которой она сравнивает брак при капитализме и социализме
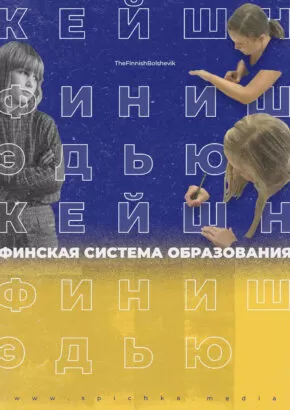 Взлёт и падение финской системы образования
Перевели видеоролик финского марксиста о том, кто и зачем разрушает образование в Финляндии
Взлёт и падение финской системы образования
Перевели видеоролик финского марксиста о том, кто и зачем разрушает образование в Финляндии
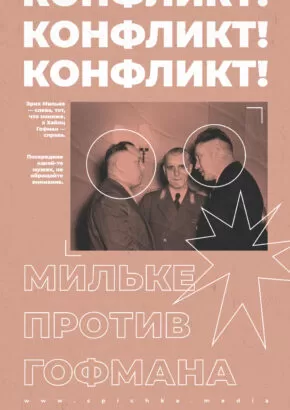 Мильке против Гофмана
Перевод статьи немецкого историка о конфликте между главой Штази Эрихом Мильке и министром обороны ГДР Хайнцом Гофманом
Мильке против Гофмана
Перевод статьи немецкого историка о конфликте между главой Штази Эрихом Мильке и министром обороны ГДР Хайнцом Гофманом