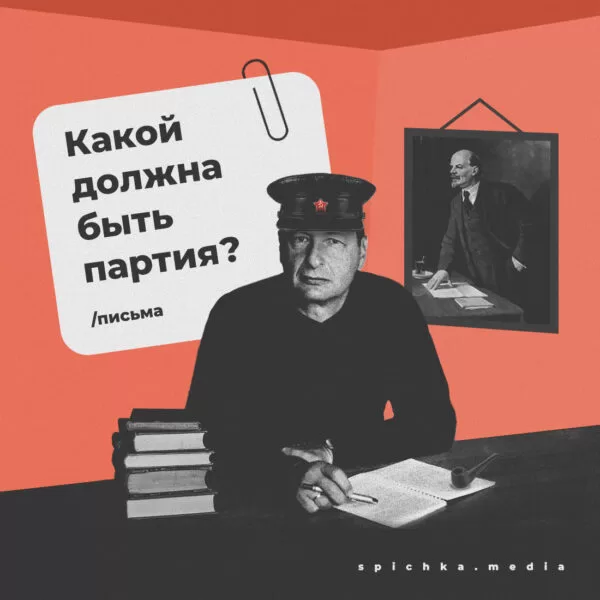Как создать партию и не проиграть? — интервью с Кагарлицким*
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДËН, РАСПРОСТРАНËН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.
* ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ПРИЗНАННОЕ МИНЮСТОМ РФ ИНОАГЕНТОМ.
Большевики запрещали одну партию за другой, затем — подавили оппозицию внутри победившей партии. Так КПСС и стала набором глухих согласных.
Нужна ли многопартийность при социализме? Промахи большевиков, провалы современных коммунистов — читай ответы Бориса Кагарлицкого и позицию «Спички».
Про что пишет Борис Юльевич?
1. В России коммунистам надо с нуля построить партию. Какую по структуре — вопросы открытый. Главное, чтобы было единство в стратегических вопросах;
2. Марксистам пора говорить о конкретных проблемах, тогда и слова-маркеры, которые пугают обывателя, будут использоваться реже;
3. Большевики не собирались создавать однопартийную систему. Даже при «Военном коммунизме» свободы было больше, чем при НЭПе.
Многопартийность не противоречит социализму, но нельзя ограничивать демократию выборами и политикой.
Мы согласны с Борисом Юльевичем, что марксистам нужна новая организация, а не одна из старых.
Какой должна быть партия?
Предисловие «Спички»
В сентябре 2024 года Борис Юльевич предложил нам провести интервью по переписке. Тогда мы решили обсудить с ним несколько тем:
— Какая партия нужна левым?
— Нужно ли коммунистам менять риторику?
— Почему в СССР сложилась однопартийная система?
— Нужна ли многопартийность при социализме?
Ответы от Бориса Юльевича мы получили 5 октября, а дополнения к ним — 19 октября 2024 года. Текст первого письма мы передавали в «Рабкор», и они его уже опубликовали.1Борис Кагарлицкий об СССР, левых партиях и новом левом блоке // Рабкор, 21.10.2024: https://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2024/10/21/kagarlitsky-about-the-ussr-left-parties-and-the-new-left-bloc/ Мы исправили опечатки, сверили текст с оригиналом, добавили второе письмо и всё это распределили по разделам — чтобы тебе было удобно читать.
Опыт большевиков важен, но его мало для современных марксистов.
Тем более полностью воспроизвести большевистскую партию ни у кого не выйдет. Мы живём в другое время, в другом обществе.
Мы согласны с Борисом Юльевичем, что марксистам нужна новая организация, а не одна из старых. Какой она будет — вопрос открытый.
Сейчас много самых разных организаций на любой вкус. Хочешь возлагать цветы к памятникам Ленину — есть ЛКСМ. Хочешь книжки читать — тоже большой выбор. Но ни одна группа сама по себе не имеет достаточно сил и ресурсов, чтобы что-то менять. Без общей практики не будет и партии.
Марксистам нужно объединиться в новую организацию, а не вступить в одну из старых. Главное — добиться единства в стратегических вопросах.
На наш взгляд, перед марксистами стоит три ключевых вопроса: где мы сейчас, куда мы идём и что делать?
Иными словами: какие проблемы капитализма мы хотим решить, какое общество мы хотим построить и что нам для этого делать.
Чтобы перестать быть пугалкой для обывателя, марксистам пора задуматься и о риторике. Точнее — говорить о конкретных проблемах. Если хочешь объяснить, почему цены в магазинах растут, тебе надо говорить о государственных расходах на СВО и кредитно-денежной политике Центробанка. Фразой «таков капитализм» не отделаешься.
Людям нужны ответы на конкретные вопросы, а не общие фразы.
Размышления о том, где мы сейчас, куда мы идём и что делать, мы, в «Спичке», ещё выскажем подробно, а пока читай наше интервью с Борисом Кагарлицким.
Интервью с Кагарлицким
Какая партия нужна коммунистам
«Спичка»: В своей последней книге вы пишете, что сейчас не может быть партии, которая выражала бы интересы всех трудящихся. Значит ли это, что у разных прослоек наëмных работников могут быть разные партии?
Б. Ю.: Масса работников наёмного труда в современном мире неоднородна. У разных групп могут быть не совпадающие интересы, более того, у них могут быть противоречащие друг другу интересы (например, работники заповедника вряд ли будут рады разработке полезных ископаемых на его территории, даже если это создаст новые рабочие места). Несомненно, нужно интегрировать и объединять всех трудящихся на основе наиболее общих, классовых интересов. Но данный процесс не может быть механическим, идущим только сверху, ибо в конечном итоге это лишь раскалывает трудящихся, создаёт новые противоречия между верхами и низами движения.
Согласование интересов — сложный динамический процесс.
В этом как раз суть гегемонии по Грамши, когда все участники движения готовы сознательно и добровольно следовать общей линии, даже чем-то жертвуя. Такой динамический компромисс лучше всего может найти выражение в широкой общественной коалиции. И даже если его формой станет одна общая партия, то это будет партия коалиционного типа, в которой работают и сотрудничают разные течения.
«Спичка»: У разных частей рабочего класса разные интересы. Следовательно, и сейчас, и при строительстве социализма не может быть единой политической партии, которая выражает интересы всех трудящихся? Значит ли это, что при капитализме левым нужна коалиция партий, а не единая партия?
Б. Ю.: Вопрос об оптимальной политической организации не может быть решён заранее или раз и навсегда. Дело не только в различиях между социальными слоями, интересы которых мы стремимся защищать, но и в истории развития левого движения, особенностях политической культуры каждой данной страны, её политической системы, законодательства и т. д. Во Франции, например, длительная история коалиций, а в Британии левым приходится бороться за гегемонию внутри Лейбористской партии, имеющей репутацию «Широкой церкви», где допускаются разные течения (но правое крыло систематически сокращает внутрипартийную демократию, чтобы не допустить успеха левых). Применительно к перспективам России в период после Путина, на мой взгляд, возникнет необходимость строительства практически с нуля широкой левой партии.
В России после Путина коммунистам надо будет с нуля построить партию-движение.
Не механической коалиции различных групп, многие из которых потащат в новое объединение свои старые сектантские привычки и склоки, а именно создание партии-движения снизу, силами активистов и лидеров на местах. Сейчас такая форма партии-движения выглядит гораздо привлекательнее бюрократических структур ХХ века, типичных для прежних социал-демократических и коммунистических партий (да, в значительной мере и для троцкистов). Тут, как ни странно, не так важен плюрализм идеологических течений и традиций, как автономия и инициатива низовых групп, активистов на местах.
Да, речь идёт об организации для борьбы в условиях капитализма, но сама форма организации, которую мы создаём, в значительной мере предвосхищает и те общественно-политические формы, которые смогут — на данной основе — сложиться при социализме.
Мы выстраиваем новые общественные отношения, в том числе — между собой.
Но что делать, если какие-то группы, тем более — обладающие некоторым влиянием, не захотят или не смогут работать в рамках такой партии-движения, однако готовы будут вносить свой вклад в общую борьбу? Логично, что всё равно придётся выстраивать с ними отношения как с внешними партнёрами. В чём-то соглашаясь, а в чём-то ведя принципиальную полемику.
«Спичка»: Можете подробнее рассказать, что вы понимаете под широкой левой партией? Особенно в плане единства взглядов.
Мы видим так. Единство по всем вопросам возможно лишь на кладбище. По этой причине пытаться договориться, кто лучше, Троцкий или Сталин, — контрпродуктивно. Нам, допустим, больше нравится Сталин, а вам — Троцкий. Всем же известно, что Кагарлицкий — троцкист! А, может быть, и бухаринец. Но эти исторические предпочтения зачастую не играют значения. Действительно важно, чтобы люди сошлись в трёх позициях: в оценке текущей ситуации, в том, как должно выглядеть общество, к которому мы стремимся, и в том, что надо делать, чтобы этого общества достичь.
Б. Ю.: Надо понять, что партия — в первую очередь политическая, а не идеологическая организация. Отсюда не следует, будто идеология не нужна. Без неё невозможно согласованное практическое действие. Предпринимая те или иные шаги, принимая решения, мы должны иметь систему критериев, общих для всех участников движения. Но фиксация на идеологии, типичная для сектантских групп, наоборот, парализует практическую работу. Вполне понятно, что широкая партия позволит вести товарищеские дискуссии по вопросам истории и теории, но необходимо вырабатывать единую линию по вопросам текущей политики.
Разногласия неизбежны, но нужно единство действий по стратегическим направлениям.
Как на практике получится, сейчас заранее уточнять не надо. Мы имеем опыт широких партий — от лейбористов в Британии до Партии трудящихся в Бразилии — и каждый раз обнаруживаем конфликт между активистами, как правило — более радикальными, и бюрократией, ориентированной на благополучное сосуществование с капитализмом. Хотя, как мы знаем по опыту Британии, на определённом этапе активистам и левому крылу партии удавалось брать верх (когда лидером избирали Майкла Фута в начале 1980-х или Джереми Корбина в 2010-е). Но так или иначе нам нужно что-то менее бюрократизированное и более радикальное. И революционная риторика не поможет. Мы же знаем, как она уживается с самым пошлым оппортунизмом. Всё это не абстрактно-теоретические вопросы, их надо решать практически.
«Спичка»: Какие могут быть альтернативы партии? Нужно ли целенаправленно создавать нечто иное, отличающееся от общепринятого понимания партии?
Б. Ю.: Как уже говорилось выше, различные формы самоуправления, экономической демократии могут развиваться на непартийной основе. Естественно, мы видим сегодня возникновение всевозможных общественных инициатив, неправительственных организаций, гражданских ассоциаций и т. д. Тем более важна роль широких общественных движений, посвящённых каким-то вопросам (экология, сохранение городской среды, зоозащита т. д. и т. п.). Но ясно, что в рамках политической системы всё равно пока действуют партии. Левым надо с общественными движениями взаимодействовать, а мы сами должны ориентироваться на создание партии-движения, избегающей излишней централизации.
Марксистам надо ориентироваться на создание партии-движения.
Но давайте будем откровенны: многое будет зависеть от условий и обстоятельств. Они могут на каком-то этапе потребовать и усиления централизации. Главное — просто не путать тактику со стратегией. На тактическом уровне, увы, возможны разные зигзаги. Вопрос в том — куда вырулим.
«Спичка»: Можете посоветовать литературу о том, как политические партии выражают интересы разных частей наëмных работников? И о формах организации трудящихся, актуальных для современности?
Б. Ю.: В своё время в журнале «Латинская Америка»2Журнал «Латинская Америка» был основан в 1969 году как журнал Института Латинской Америки АН СССР. Выпускается до сих пор.
Архив журнала за последние годы доступен на сайте РАН:
Латинская Америка // РАН: https://new.ras.ru/work/publishing/journals/latinskaya-amerika/ — ещё в 1970-х — была дискуссия о латиноамериканских левых, где поднимались как раз те же вопросы, что и в нашем интервью (с поправкой на советскую цензуру, разумеется). Есть классическая работа Дюверже про политические партии, она переведена на русский язык.3Речь про книгу Мориса Дюверже «Политические партии» (1951). Там он объясняет, как функционируют партии, какая у них может быть стратегия и тактика, как бороться за избирателей.
В СССР был Институт мирового рабочего движения (позднее переименованный в Институт сравнительной политологии), там выходило немало работ по левым партиям Запада с анализом их социальной базы, например — «Размежевания и сдвиги в социал- реформизме».4Речь про книгу:
Размежевания и сдвиги в социал-реформизме: Критический анализ левых течений западноевропейской социал-демократии. — Москва : Наука, 1983.
Книгу написал коллектив авторов из Института международного рабочего движения АН СССР. В ней они выявили тенденции развития социал-демократических партий в Западной Европе в 1970-е и в начале 1980-х. Конечно, есть и более свежие работы, но, находясь в тюрьме, без доступа к интернету и к своей библиотеке, я вряд ли смогу что-то добавить.
Риторика коммунистов — что изменить?
«Спичка»: Есть слова-маркеры. Между собой мы говорим и про буржуазию, и про капитализм, но, какие бы умные мысли ты ни говорил, после этих маркеров люди перестают тебя слушать.
Как вы считаете, надо ли марксистам менять риторику? Если да, то в какой степени?
Б. Ю.: Есть терминология, которая адекватно описывает явления. Я категорически против того, чтобы «засорять эфир» революционной трескотнёй, от которой никакого проку. Только людей пугать. И подыгрывать правым либералам с их разговорами «о ГУЛАГах и дефицитах».
Значит ли это, что надо модернизировать риторику, лексику? Да, но не за счёт теории. Если мы говорим с людьми, которых замучил рост цен, то надо не общими словами кидаться про капитализм, а говорить об инфляции, о том, откуда взялась проблема, что мы стали бы делать в соответствии со своими принципами, дабы её решить. Надо быть конкретным. Значит, вопрос вообще не совсем верно поставлен.
Не смена риторики нужна, а нужна ориентация на конкретику.
А это, в свою очередь, потребует соответствующей лексики. Если мы хотим говорить об общественной собственности в национализации, например, нефтегазовой отрасли и энергетики, то, опять же, надо показать людям, почему такое решение будет в их интересах.
«Спичка»: В продолжение предыдущего вопроса. Что вы думаете об актуальности лозунга диктатуры пролетариата?
Б. Ю.: Старая проблема еврокоммунистических партий. Пока вы сохраняете в документах упоминание о диктатуре пролетариата, вас обвиняют в намерении построить ГУЛАГ и Северную Корею. Когда вы удаляете из документов этот термин, вас обвиняют в оппортунизме, примирении с буржуазией и т. д. В общем, тупиковая дискуссия. Давайте говорить опять конкретно.
Мы за демократию, мы за неё боремся гораздо последовательнее либералов.
Самые демократичные конституции в Европе и Латинской Америке — плод деятельности левых. Но мы не верим, что ничего лучше либеральных политических институтов сделать нельзя. Как раз наоборот, мы видим кризис и недостаточность данных институтов. Значит, надо создавать новые каналы и механизмы для участия масс в управлении, принятии решений. В этом смысле я понимаю попытку Юдина* и Магуна5В июле 2024 года Политологи Григорий Юдин*, Евгений Рощин и Артемий Магун предложили проект новой Конституции России. Проект написан с либеральных позиций и его можно найти в иноагентских медиа. написать проект демократической конституции на иных, чем у либералов, институциональных основаниях. Что вышло, я судить не могу, полного текста не читал. Да и вообще проект — это декларация. Но реальные конституции [в отличие от проектов политологов. — прим. ред.] отражают соотношение сил в обществе.
Надо начать строить новую демократию в России, а по ходу работы многое прояснится. Но есть факт: попытка просто копировать западные либеральные институты в 1990-е годы провалилась. И не из-за мифической «русской специфики», а из-за социально-экономических условий периферийного капитализма, который у нас сложился. Значит, корень проблемы тут. Надо что-то делать с самим курсом развития, с социально-экономической системой. Преобразуя её, мы заложим основания для новой демократии, которая, вероятно, будет более похожа на то, о чём писали Маркс, Энгельс и другие социалисты XIX века.
«Спичка»: Как вы относитесь к предложениям изменить название движения и символику?
Б. Ю.: У российских левых пока нет партии. И тем более — символики. Будет организация, для неё найдётся название. Мне кажется, что оно не должно быть слишком идеологическим. Скорее — наоборот. C названием будут задним числом связываться определённые принципы и практики. Что значило слово «якобинец»? Только то, что этот политический клуб собирался в помещении бывшего монастыря Св. Якова. А слово «большевик»? Только то, что эта группа получила большинство голосов на II съезде РСДРП. Слова постепенно наполняются смыслом. Я уверен, что у нас ещё будут свои новые слова.
Почему в СССР была диктатура партии
«Спичка»: Почему в Советском Союзе сложилась однопартийная система?
Б. Ю.: Неизбежность установления однопартийной системы никогда теоретически не обосновывалась даже в рамках советской официальной идеологии. Но она как бы подразумевалась: если у нас есть самая передовая партия, вооружённая самой передовой идеологией и теорией, опирающаяся на весь народ, то зачем нам другие партии?
У нас уже есть партия, вооружённая передовой теорией. Зачем нам другие?
Хотя, кстати, в так называемых «странах народной демократии» (ГДР, Польша, Чехословакия) некое подобие многопартийности сохранялось. Было ещё несколько декоративных партий, входивших формально в коалицию с коммунистами. В 1989 году это сработало неожиданным образом, когда лидеры этих фиктивных партий вдруг вышли из коалиции и перешли в оппозицию. Так в Польше мирно сменили правительство, создав в Сейме новое большинство с участием «Солидарности».6Речь про политический кризис 1989 года в Польше.
После забастовок профсоюза «Солидарность», правительство Польши пошло на переговоры.
В июне 1989 года прошли выборы в Сейм и сенат. Тогда на выборах оппозиция набрала большинство, вопреки ожиданиям правительства. После этого постепенно власть в стране полностью сменилась мирным путём.
Но так или иначе к 1920-м годам в СССР однопартийная система уже сложилась, став институциональной основой государства. Другое дело, что система тоже эволюционировала. На протяжении 1920-х годов коммунистическая партия понемногу утрачивала черты политической партии, сливаясь с государственным управленческим аппаратом, а потом заменяя его.
В 1920-е компартия утрачивала черты политической партии и сливалась с госаппаратом.
Можно сказать, что советская (в буквальном смысле) власть была ликвидирована. Первые секретари обкомов были, по сути, губернаторами провинций. В обкомах были отделы промышленности, сельского хозяйства и т. д. Партия занималась повышением надоев коров, снабжением магазинов товарами и вообще чем угодно, кроме политики.
«Спичка»: Есть мнение, что однопартийная система в СССР — это историческая случайность. Если бы отношения с левыми эсерами и другими партиями сложились бы иначе, то и политическая система была бы иной. Как вы считаете, могла ли в Советской России сложиться двухпартийная или многопартийная система?
Б. Ю.: Безусловно, в 1917 и даже в 1918–19 годах у Ленина и большевиков не было плана установления однопартийной системы. То меньшевиков начинали преследовать, то разрешали им легально работать и избирать своих депутатов в Советы. Но всё же говорить о «случайности» я бы не стал.
Установление однопартийной системы в СССР — не случайность, а закономерность.
Если мы посмотрим на другие великие революции — в Англии XVII века и во Франции в XVIII веке — мы видим ту же самую картину: власть концентрируется в руках наиболее радикальной и последовательной партии, которая устанавливает свою диктатуру. В Англии были индепенденты, во Франции якобинцы, в России — большевики. Тут явная логика процесса, проходящего определённые закономерные фазы. Затем наступает консервативная трансформация режима (термидорианская и бонапартистская фаза). Соответственно, мы видим режим Кромвеля в Британии, Наполеона во Франции, Сталина в СССР.
Революция — консервативная трансформация — реставрация.
Далее наступает период реставрации. Но вот тут мы уже видим интересные различия. Во-первых, советская система пережила Сталина. Во-вторых, если считать перестройку и правление Ельцина российским вариантом реставрации (а для этого есть все основания, о чём я писал уже в 1990-е годы), то наступила данная фаза с заметным опозданием, СССР просуществовал более 70 лет, а циклы английской и французской революций заняли примерно четверть века.
В последнее время у меня возникла гипотеза, что с развитием современных технологий (в том числе коммуникационных) исторический процесс не ускоряется, а, наоборот, замедляется. Но об этом надо ещё серьёзно подумать. А пока, возвращаясь к нашему вопросу, замечу, что в СССР смогли в 1930-е годы создать весьма прочный институциональный порядок, не сводимый к личной власти Сталина. И частью этого было превращение партийной диктатуры большевиков в однопартийную систему, о чём говорилось выше.
Какова роль Ленина и Троцкого в установлении диктатуры одной партии?
Как сказано выше, заранее такого плана [создавать однопартийную систему. — прим. ред.] не было. Но в 1921 году, на фоне перехода к новой экономической политике, Ленин совершенно сознательно добивался полного запрета и уничтожения советских оппозиционных партий. Логика вождя крайне проста. Мы на экономическом фронте отступаем, расширяем свободу для буржуазии. Она может это использовать для политического реванша. Потому экономическую либерализацию надо компенсировать ужесточением политического режима. Получается парадокс: в годы Гражданской войны и красного террора политической свободы и плюрализма было больше, чем в годы НЭПа, считающиеся чуть ли не золотым веком постреволюционной России. Правда, меньшевикам и эсерам, которых отправляли в тюрьмы, часто обещали, что всё это временно, скоро их опять легализуют. И похоже, Ленин в последние месяцы жизни заподозрил неладное, стал размышлять о грозящем большевистской партии вырождении. Троцкий позднее в «Преданной Революции»7Лев Троцкий написал «Преданную революцию» уже в эмиграции, в 1936 году. Там он раскритиковал Сталина и определил Советский Союз как «деформированное рабочее государство». прямо отстаивал принцип многопартийности. Но это уже никак не повлияло на советскую систему.
После Второй мировой в странах народной демократии проводили эксперименты с многопартийностью.
Впрочем, были ещё в советский период попытки изменения политических институтов. Сразу после окончания Второй мировой войны компартия Германии приняла так называемый «Тезис Аккермана»8Антон Аккерман — немецкий коммунист. Один из создателей Компартии Германии в Советской зоне оккупации.
В 1946 году Аккерман написал работу «Существует ли особый немецкий путь к социализму?» Там он обосновал, почему в Германии можно построить социализм без периода диктатуры пролетариата.
С 1946 года Аккерман был в ЦК СЕПГ. В 1953 году — его сняли с государственных должностей, а затем — исключили из ЦК. Впоследствии он работал в Министерстве культуры.. Аккерман был одним из лидеров и идеологов партии. Он писал, что в СССР однопартийная система сложилась в условиях Гражданской войны, отсталости и враждебного окружения, а сейчас в Германии обстановка совершенно иная, а потому социализм будет строиться в условиях политической свободы и многопартийности. По сути дела, «Тезис Аккермана» — это уже то, что потом назвали «еврокоммунизмом». Но в данном случае для нас важно, что выступление Аккермана было согласовано с Москвой и о нём прекрасно знал Сталин. Вероятно, по крайней мере — по отношению к Восточной Европе, была готовность поэкспериментировать с политическими режимами. Но началась холодная война и страны, попавшие в сферу влияния СССР, были реорганизованы по советскому образцу. Аккермана отодвинули на второстепенные позиции. А фиктивная многопартийность в ГДР оказалась единственным последствием тех попыток демократизации.
Фиктивная многопартийность в ГДР оказалась единственным последствием попыток демократизации.
В хрущёвские годы в Советском Союзе началось странное разделение райкомов на городские и сельские. Некоторые видели в этом подготовку к созданию в стране второй партии — крестьянской. Однако, во-первых, данный вывод неочевиден, а во-вторых, после отстранения Хрущёва в 1964 году было всё возвращено в первоначальное состояние.
Наконец, в 1968 году разворачивается «Пражская Весна». В Чехословакии Коммунистическая партия проводит реформы и принимает «Программу действий». Данный документ был опубликован по-русски тогда же в журнале «Проблемы мира и социализма»9«Проблемы мира и социализма» — теоретический журнал, созданный по решению Совещания коммунистических и рабочих партий в 1958 году. В редакции были представители не только КПСС и компартий соцстран, но и партий из капстран. Журнал выпускали в Праге с 1958 по 1990 годы., выходившем в Праге. И он очень серьёзно повлиял на программы левых партий Европы и Латинской Америки. Во время революции 1970–73 годов в Чили партии Народного Единства провозглашали те же принципы. В ходе «Пражской весны» предполагался переход к многопартийности (политическому плюрализму), а коммунисты должны были снова стать именно политической партией, отстаивающей своё право на лидерство в ходе свободных выборов.
«Спичка»: Впервые слышим про идею Хрущёва создать вторую, крестьянскую партию. Как мы понимаем, это гипотеза историков. Но есть ли для неё основания, кроме разделения райкомов КПСС на сельские и городские?
Б. Ю.: Про разделение райкомов как подготовку к созданию крестьянской партии много говорили в 60-е годы. Но пока у нас нет документов, которые могли бы окончательно подтвердить такое намерение Хрущёва, это остаётся гипотезой. Просто обращаю внимание на то, что крестьянские партии-союзники были и в ГДР, и в Польше.
Партии при социализме — хватит одной?
«Спичка»: Многопартийная система при социализме предпочтительнее однопартийной? Могут ли буржуазные партии участвовать в управлении государством при социализме? Какие могут быть проблемы многопартийной системы при социализме?
Б. Ю.: Если фундаментальные принципы политической свободы предполагают возможность конкуренции между партиями, то вполне понятно, что социалистическое общество должно сохранять и развивать завоевания буржуазных революций. Об этом Каутский и Роза Люксембург писали, критикуя большевиков. Занятно, но даже Сталин на XIX съезде КПСС в последней своей публичной речи позитивно говорил о наследии буржуазной демократии.10Речь про это высказывание Сталина:
«Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять».
Источник: Сталин И. В. Речь на XIX съезде КПСС, 14 октября 1952 года.
Через соревнование партий народ получает возможность выразить свою волю. Только вот сводимо ли самоопределение народа к выбору между партиями?
Ограничивая демократию выборами и сферой политики, мы как раз и остаёмся в рамках буржуазного понимания свободы.
В будущем обществе наверняка возникнет много новых механизмов, позволяющих людям участвовать в принятии решений, в том числе неполитических. И современные технологии создают для этого богатые возможности.
Мне кажется, что по мере развития самоуправления и экономической демократии роль и влияние партий будет сокращаться. Когда вы выбираете представителя для участия в управлении компанией, будете ли вы в первую очередь смотреть на его партийную принадлежность или на его компетентность, на его умение находить общий язык с коллегами?
Что касается буржуазных партий, то вопрос сводится к тому, насколько успешно будут развиваться новые социально-экономические отношения. Если общество, его структура и культура глубоко изменились, то у старых партий есть только два варианта: либо они должны отмереть, либо найти себе новую социальную базу, преобразиться. Таких примеров в истории немало. Например, британские Тори (консерваторы) были партией помещиков-аристократов, противостоявшей коммерческой буржуазии — вигам (либералам). Современные тори — партия именно крупного капитала. А наследники вигов — либерал-демократы в Англии — партия «продвинутого» «среднего класса».
Ясно, что мы не должны и не можем всё предсказывать заранее. Утопизм — это как раз и есть стремление сперва заранее нарисовать некую красивую картинку, потом пытаться всеми силами подогнать под неё сопротивляющуюся реальность.
Утопизм — это стремление заранее нарисовать красивую картинку, потом пытаться подогнать под неё реальность.
Если Маркс был прав относительно отмирания государства в будущем, то партии станут отмирать вместе с ним. Но тут пока мы можем только гадать. Хотелось бы увидеть нечто вроде общества, описанного Стругацкими, «полуденное» свободное сообщество людей, ориентированных на рациональный гуманизм. Но то всё же была научная фантастика. Остановимся пока на пророчествах молодых Стругацких и Ивана Ефремова, а дальше будем работать и посмотрим, что получится.
Всего доброго,
Борис Кагарлицкий
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
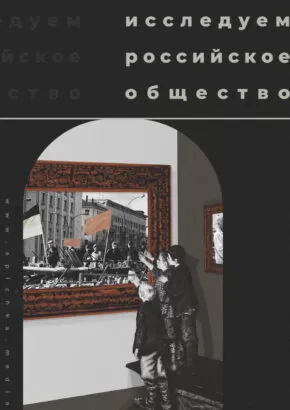 Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
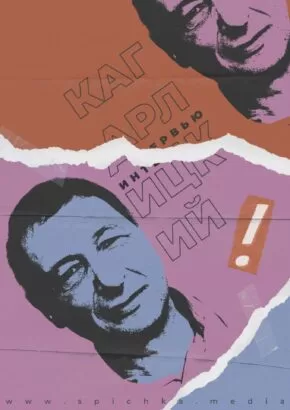 Борис Кагарлицкий* о перестройке
Борис Юльевич* рассказал нам, как он участвовал в перестройке и почему она, по его мнению, провалилась
Борис Кагарлицкий* о перестройке
Борис Юльевич* рассказал нам, как он участвовал в перестройке и почему она, по его мнению, провалилась
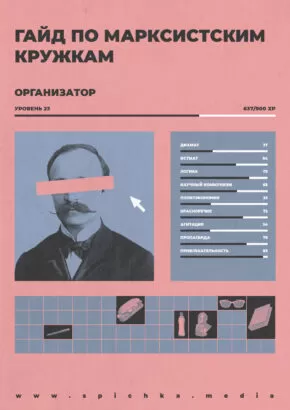 Гайд по марксистским кружкам
Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать
Гайд по марксистским кружкам
Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать
 Коммунизм есть кагарлицкая власть плюс диванизация всей страны
Критикуем Навального*, Кагарлицкого** и Сёмина — что надо, а что не надо делать на митингах
Коммунизм есть кагарлицкая власть плюс диванизация всей страны
Критикуем Навального*, Кагарлицкого** и Сёмина — что надо, а что не надо делать на митингах