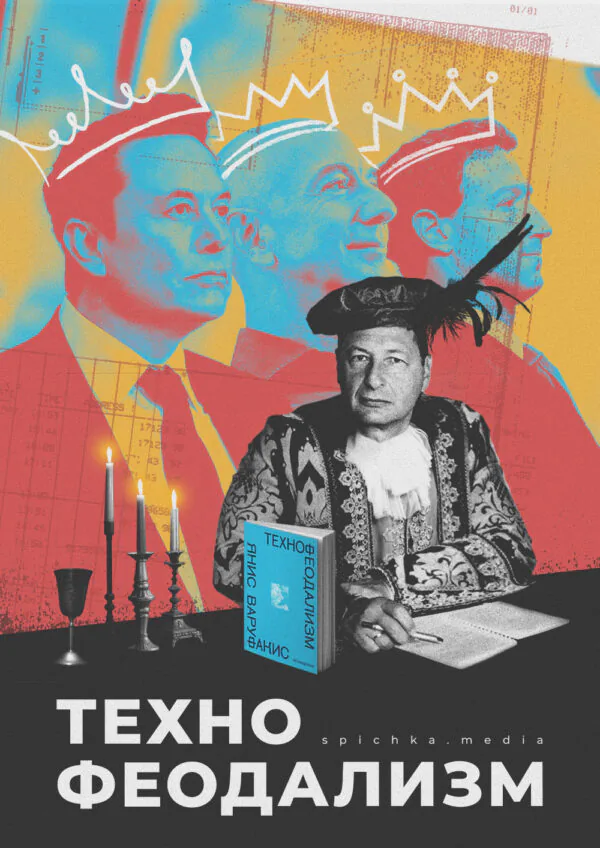
Теперь твой хозяин — Илон Маск. Большая рецензия Кагарлицкого
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДËН, РАСПРОСТРАНËН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.
Маск, Безос, Цукерберг — что общего? Они — «технофеодалы», владельцы «крепостных», считает Варуфакис — левый экономист из Греции.
— Что же делать? — «Строить рыночный социализм!» — отвечает грек. Увы, он нарисовал утопию, в которую не поверил даже пьяница в лондонском пабе.
Как убедить в социализме незнакомца? — Борис Кагарлицкий объясняет в большой рецензии из тюрьмы. И критикует идею «технофеодализма».
Основные идеи материала:
- Янис Варуфакис показывает, как мир пришёл к кризису 2008–2010 годов и как технологии изменили капитализм;
- «Технофеодализм» — не метафора. Варуфакис доказывает, что это правильный термин. Кагарлицкий это опровергает;
- Пользователей соцсетей Варуфакис считает «облачными крепостными». Спорное утверждение.
Варуфакис оказывается в лондонском пабе, где пытается объяснить местному пьянице, что такое социализм. Правда, у него ничего не вышло. Как же надо было объяснять? — Читай дальше.
Предисловие «Спички»
Диагноз обществу
В этом году издательство Ad Marginem издало на русском языке книгу Яниса Варуфакиса «Технофеодализм»1Янис Варуфакис. Технофеодализм // Москва : Ad Marginem, 2025.
Книгу можно купить в издательстве: https://admarginem.ru/product/tehnofeodalizm/1. Заголовок интригует: «Выдающийся экономист ставит убедительный диагноз современному состоянию общества»2Заголовок взять с сайта издательства: https://admarginem.ru/product/tehnofeodalizm/. Насколько диагноз «убедительный» и предлагает ли Варуфакис адекватное лечение — решил разобраться Борис Кагарлицкий. Благо, книгу ему передали прямо в колонию.
Нам тоже есть что сказать, но сначала — что же это за «выдающийся экономист»?
Пара слов об авторе книги
Янис Варуфакис — греческий экономист. Специализируется на теме Великой рецессии, которая началась с 2008 года.
В 2015 году полгода был депутатом парламента и министром финансов Греции как член левой партии СИРИЗА3«Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс» — она же «СИРИЗА — ПА». Для русскоязычного читателя известна просто как «СИРИЗА».
В 2004 году СИРИЗА появилась как союз левых партий в Греции: от евролевых до троцкистов и маоистов. В 2012 году объединение преобразовали в единую партию.
СИРИЗА стала популярна из-за критики неолиберальной политики «жёсткой экономии» после кризиса 2008–2010 годов. На парламентских выборах в январе 2015 года партия получила 149 из 300 мест в парламенте Греции. Тогда СИРИЗА сформировала правительство во главе с Алексисом Ципрасом.
Правда, правительство просуществовало всего полгода: партия раскололась из-за того, что Ципрас продолжил политику предшественников по жёсткой экономии. Тогда он лишился большинства в парламенте и потребовались перевыборы. На них СИРИЗА снова победила, но уже без радикальных левых: к тому времени они покинули партию.
СИРИЗА оставалась у власти до 2019 года и с тех пор теряет популярность. Сейчас у неё 26 депутатов в парламенте.. Затем вновь избирался в парламент в 2019 году и исполнял обязанности до 2023 года.
В 2018 году Варуфакис основал партию «Европейский реалистический фронт неповиновения», она же — «МЕРА25». Партия выступает за демократический и рыночный социализм. На выборах 2023 года партия не прошла минимального порога голосов и не попала в парламент.
Янис Варуфакис и его партия «МЕРА25» — за демократический и рыночный социализм.
В 2024 году Варуфакису запретили въезд в Германию, после того как он организовал Палестинский конгресс в Берлине. На мероприятии он обвинил Израиль в геноциде палестинцев4Речь, из-за которой Варуфакису запретили въезд в Германию // Рабкор, 21.04.2024: https://rabkor.ru/columns/report/2024/04/21/varoufakis-was-banned-from-entering-germany/. Также он осудил террористические атаки ХАМАС, но это не спасло его от немецкого МВД.
Янис Варуфакис не только политик. Он работает профессором экономики в Афинском и в Техасском университете. Ещё он консультирует игровую компанию Valve по рынку виртуальных товаров.
Три его книги переведены на русский5Янис Варуфакис. Взрослые в доме. Неравная борьба с европейским «глубинным государством» / [Пер. В. Желнинова]. — М.: АСТ, 2018. — 670 стр.
Янис Варуфакис. Беседы с дочерью об экономике / Пер. А. Марков. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. — 175 стр.
Янис Варуфакис. Технофеодализм // Москва : Ad Marginem, 2025. — 304 стр.. Последняя — «Технофеодализм» вышла на английском в 2023 году и в 2025 году опубликована по-русски. На неё и написал рецензию Борис Кагарлицкий.
Перед тем как переходить к рецензии, ответим на вопрос: что же такое «феодализм»? Если ты уже знаешь, что это такое, то переходи к разделу «Мир после технофеодализма».
Крепостные в облаках — мнение «Спички»
Когда я — собеседник Кагарлицкого — впервые увидел название «Технофеодализм», решил, что Варуфакис использует это лишь как художественное описание. Не может же он на полном серьёзе доказывать, что современное общество — это феодализм с новыми технологиями. Не может ведь?
Почему-то всё время появляются те, кто пытается описать современное общество через «феодализм» с разными приставками «нео», «техно» и так далее. Проблема в том, что сущностные признаки феодализма как общественно-экономической формации люди игнорируют либо трактуют неправильно.
Борис Юльевич раскритиковал эту часть книги, поэтому не будем его повторять. Проговорим только ещё раз, что такое феодализм.
Феодализм — это формация с ключевыми признаками:
- Феодальная собственность на землю.
Ключевое отличие феодальной собственности от частной в том, что при феодализме земля не была собственностью конкретного феодала. Земля была его владением, которое ему жаловал вышестоящий по иерархии феодал. И так по иерархии до монарха или до государства;
- Крестьянское мелкое хозяйство.
Наделы выделялись крестьянам для собственных нужд, но не передавались им в собственность;
- Изъятие продукта труда крестьян.
Феодалы изымали продукт труда крестьян — барщиной, когда крестьяне вспахивали поле помещика, либо оброком, который крестьяне платили продуктами или деньгами.
Пытаться осмыслить явления современного общества через феодализм — бесперспективно. Это просто попытка натянуть новые проблемы на старые лекала.
Технологические корпорации и платформы основаны на капиталистической частной собственности, а не на феодальной: сегодня Илон Маск никому не жалует «твиттерные угодья» и не спешит делиться прибылью.
Платформами владеют десятки буржуа, а пользуются ими миллионы людей.
Соцсетями и платформами пользуются миллионы людей ежедневно. Можно ли обойтись без них? Уже нет. Это часть общественной инфраструктуры, типа связи, интернета, если хотите, водопровода и электричества. И вся такая общественная инфраструктура должна быть социализрована, то есть должна стать общественным достоянием. В этом и проблема, что платформами владеют десятки людей, а зависят от них — миллионы.
«Спичка» про мир после технофеодализма
В своей книге Янис Варуфакис попытался рассказать, каким же будет прекрасный социализм будущего. Он описал утопию, и получилось не очень убедительно. Я и сам допускал такие ошибки.
Время от времени я общаюсь с людьми других взглядов либо с людьми без чёткой идеологической позиции. Зачастую они соглашаются с тем, что экономику надо менять, соглашаются с марксистской критикой современного общества. После этого они задают закономерный вопрос:
А каким ты видишь социализм?
Вопрос уместен, но ставит в тупик. Много книжек я читал, поэтому могу в целом рассказать про социализм: советы рабочих, профсоюзы, экономическое планирование. Но это не системное изложение, а, скорее, пересказ основных тезисов большевиков с попыткой применить их к современности. К сожалению, такой подход встречается не только у меня. Большинство марксистов могут критиковать капитализм, но испытывают трудности, когда надо рассказать про то общество, которое будет после капитализма. Янис Варуфакис не исключение.
В разговорах «А каким ты видишь социализм?» Борис Юльевич предлагает такой подход: говорить о текущих проблемах, а от них переходить к социализму.
Каким будет социализм, во многом зависит от современного общества, то есть от условий, в которых начнётся социалистическое строительство.
Подход Кагарлицкого — говорить о текущих проблемах.
Борис Юльевич предлагает собеседнику самому сформулировать 5–6 вопросов, которые его волнуют.
«Затем я последовательно объясняю подходы левых к решению этих конкретных проблем. И если мои ответы кажутся ему разумными и привлекательными, а главное — убедительными, предлагаю: теперь сложите всё это вместе. То, что получится в итоге, и есть картина нового общества».6Цитата из текущей публикации, глава «Утопия?»
Подход прост. В следующей дискуссии опробую.
«Технофеодализм»: рецензия Бориса Кагарлицкого
Капитализм вне себя
Книги, которые попадают в тюрьму к заключённому, всегда очень важны. Их читают внимательно, не пропуская мелочей, на свободе, конечно, ускользнувших бы от нашего внимания. Но думаю, что книга греческого экономиста и левого политика Яниса Варуфакиса, присланная мне некоторое время назад, заслуживает внимания в любом случае, независимо от обстоятельств, при которых мы её будем читать. Наряду с книгами Н. Срничека «Капитализм платформ»7В 2016 году канадский политолог Ник Срничек опубликовал книгу «Капитализм платформ» («Platform Capitalism»). В ней автор рассматривает тенденции развития капитализма начиная с 1970-х. Акцент он делает на онлайн-платформы, которые стали важной частью экономики. Книга переведена на русский. и Ш. Зубофф «Эпоха надзорного капитализма»8Шошанна Зубофф — социальный психолог, экономист и политолог из США. В 2019 вышла её книга «Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти» («The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power»).
Шошанна Зубофф считает, что сейчас мы живём в эпоху «надзорного капитализма» («Surveillance capitalism»), когда монополии получают доход за счёт тотальной слежки за потребителем и его запросами. Это угрожает не только демократии, но и самому будущему. Современный капитализм с его информационными технологиями приведёт к тоталитаризму без идеологии, если ничего не менять., эта работа представляет собой попытку обобщённо описать изменения, которые уже произошли в экономике и обществе в связи с развитием новых технологий: интернет, искусственный интеллект, облачные хранилища данных, мессенджеры, социальные сети и т. д. Причём у Варуфакиса есть определённое преимущество: во-первых, его книга великолепно написана и, добавим, отлично переведена А. Снегировым под редакцией А. Квачко и А. Павлова, который написал и послесловие; во-вторых, не сосредотачиваясь только на технологиях, Варуфакис показывает связь новых экономических практик с кризисом 2008–2010 годов, получившего название «Великая рецессия».
Варуфакис показывает, как современная экономика пришла к кризису 2008–2010 годов.
Если в 2008 году, когда кризис разразился по всему миру (уже в 2007 он поразил рынок недвижимости и банковский сектор в США), большинство аналитиков, включая многих либералов, сходилось на том, что неминуемы серьёзные структурные реформы, многие из которых ранее предлагались левыми. Однако этого не произошло. Кризис «потушили», просто залив экономику деньгами. В разном масштабе это происходило всюду, но основную роль тут сыграла Федеральная резервная система США. Во многих странах, включая Грецию, где Варуфакис, ранее преподававший в американском университете, недолгое время поработал министром финансов, кризис частного долга сменился кризисом государственного бюджета: правительства, спасая банки, поставили себя на грань банкротства. Но базовая характеристика системы не изменилась, всё осталось по-прежнему.
Во многих странах правительства, спасая банки, поставили себя на грань банкротства.
Во всяком случае, мы так думали. Варуфакис показывает, что всё обстояло немного иначе.
Главной особенностью антикризисной политики 2008–2010 годов было то, что щедрое финансирование операций по спасению банков и корпораций сопровождалось мерами жёсткой экономии (austerity) по отношению к обычным гражданам. В итоге спасённые компании и финансовый сектор в целом оказались с горой денег, которые не во что было вкладывать, поскольку обедневшие домохозяйства и правительства, занятые спасением банков, не предъявляли спроса на товары. Вообще-то — типичный случай перенакопления капитала, описанного ещё Розой Люксембург. Но подобные кризисы перенакопления обычно в перспективе приводят к перераспределению ресурсов между отраслями и странами. Так вышло и на сей раз.
Деньги стали вкладывать не в производство, а в технологические компании.
Средства, которые необходимо было вложить в промышленность, сельское хозяйство или социальную сферу, потекли к компаниям, внедрявшим новые технологии. Например, социальная сеть не требует больших инвестиций (по сравнению, конечно, со строительством новых заводов), а для замученных кризисом пользователей оказывается вообще бесплатной. Зато сами пользователи наполняют её информацией, повышая капитализацию компании-основателя, возникают платформы для размещения объявлений, рекламы, координации работы такси и так далее. Всё это уже приносит доход. Возникает то, что по аналогии с облачными хранилищами данных Варуфакис назвал «облачным капиталом». Источником его процветания уже становится не прибыль от продажи товаров, а рента, которую другие предприниматели, продающие свой товар и общающиеся с клиентами через платформу, платят её владельцам. Варуфакис особенно подчёркивает это обстоятельство, настаивая на торжестве ренты над прибылью. В то же время масса пользователей, имеющих бесплатный доступ к сетям, в свою очередь заполняют их контентом и данными (ценными и не очень), которые подпитывают развитие бизнеса. Компании, продающие товары через сеть, уже не могут из неё уйти, ибо рискуют потерять клиентов.
Компании, работающие в сетях, Варуфакис назвал «облачными вассалами» технологических корпораций, пользователей — «облачными крепостными».

Что касается перераспределения влияния между странами и регионами, то Варуфакис подчёркивает отставание Европы, где нет своих компаний-гигантов, подобных Amazon, Google или Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), а победителями выступают США и Китай, создавший собственные сети, в чём-то ещё более мощные, чем у американцев. Добавлю от себя, что в данном контексте Россия тоже выглядит относительно успешной благодаря созданию платформ, таких как, например, «Яндекс». Насколько они являются реально «нашими» — другой вопрос. Китай и Америку автор назвал «облачными феодами», предсказывая их борьбу за доминирование в мире.
Вплоть до этого места я читал Варуфакиса, соглашаясь буквально с каждой фразой. Однако затем начались проблемы.
Феодализм?
Если бы термин «технофеодализм» использовался Варуфакисом просто как метафора, особых поводов для споров бы не было. Но, к несчастью, автор потратил целую главу на то, чтобы доказывать политэкономическую и социологическую корректность своего термина. И, как мы увидим далее, отсюда вытекают и некоторые другие проблемы с его концепцией. Проблемы достаточно серьёзные не только в плане теоретического анализа, но и в плане политической стратегии.
Итак, что такое всё-таки феодализм?
С точки зрения Варуфакиса, феодализм — это экономика, построенная на ренте. Но, увы, в истории всё обстоит прямо противоположным образом9При феодализме помещики изымают продукт труда крестьян через барщину или оброк. В советском марксизме это называли «феодальной земельной рентой», но это не совсем правильно. Чтобы уточнить этот момент, мы написали ещё одно письмо Борису Юльевичу. Его ответ смотри в последней главе «Феодальная рента».. Рентные отношения развиваются именно тогда, когда буржуазный уклад начинает успешно подрывать и вытеснять феодальные порядки.
В классическом феодализме, во-первых, всё построено на непосредственном изъятии феодалами натурального продукта у крестьян, которые пашут землю на барщине или приносят оброк в виде продукции своего хозяйства, а во-вторых, частной собственности на землю, где всё это происходит, нет. Вотчина является не собственностью, а владением сеньора. И дело не только в том, что её можно просто отобрать в случае невыполнения вассалом своих обязательств (как, например, французские короли отбирали Аквитанию у своих английских родственников), но самое главное, что одна и та же земля может одновременно принадлежать и королю, и сеньору, и сельской общине. Каждый имеет на неё определённые права, баланс между которыми и позволяет воспроизводить социальные и производственные отношения.
Обмен и торговля существовали всегда. Не было «чистого» натурального хозяйства.
Разумеется, даже весьма крупная вотчина не может обеспечивать себя всем. В результате некоторое количество излишков продаётся на рынке, чтобы в обмен приобрести то, что не могут сделать сами (металл, соль, предметы роскоши для семьи сеньора). В этом смысле Фернан Бродель10Фернан Бродель — французский историк. Он исследовал появление капитализма как системы и стал одним из основоположников мир-системного анализа. Его основные труды переведены на русский. совершенно справедливо указывал, что «чистого» натурального хозяйства не существовало: обмен и торговля существовали всегда. Но денежное хозяйство было по отношению к феодальной экономике маргинально.
Примерно в XI веке (где-то чуть раньше, а где-то немного позже) развиваются технологии каменного строительства, феодалы возводят себе замки (costellazione), усиливая эксплуатацию крестьян. Вокруг королевских замков начинают формироваться города.
В этих-то городах (по-немецки «бургах», а по-французски «буржах») начинают развиваться денежная торговля и буржуазные отношения. По мере того как открываются новые возможности, растут и потребности феодалов, но препятствием для этого как раз оказывается существующий порядок, когда не только с крестьян денег не получишь, но и от вассалов дохода никакого, они отрабатывают свои владения службой или той же натуральной повинностью. Например, поддерживают в порядке дорогу или мост, а Оксфордский университет должен ремонтировать городскую стену, администраторы New College11New College — это колледж при Оксфордском университете в Британии. Основан в 1379 году.
Можно почитать про New College на сайте Оксфорда: https://www.new.ox.ac.uk/homepage до сих пор вынуждены этим делом регулярно заниматься.
Потребности феодалов растут, но они не могут получить больше денег с крестьян.
Стремясь получить живые деньги, короли вводят всё новые и новые налоги, а феодалы, у которых такой возможности нет, пытаются заменить оброк и барщину денежными выплатами, но не тут-то было. Препятствием становится не только сопротивление крестьян, но и отсутствие частной собственности на землю. Её нельзя ни поделить, ни продать, ни «перепрофилировать», например, с выращивания зерна на производство более выгодных технических культур. После кризиса XIV века12Речь про «Кризис позднего Средневековья», он же «Кризис феодализма», который начался в XIV веке и завершился в конце XV века. В тот период экономика всех Европейских стран деградировала: производство падало, земли забрасывали, города пустели. Есть мнение, что этот кризис был следствием эпидемии чумы., окончательно разбалансировавшего средневековую экономику, начинают торжествовать уже новые отношения — буржуазные.
Когда земля превращается в частную собственность, а натуральные повинности сменяются денежной рентой, приходит конец феодализму.
Землевладельцы — либо сами начинают производить товар на рынок, становясь, по выражению Ричарда Лахмана, «капиталистами поневоле»13Ричард Лахман — в некоторых публикациях «Лахманн» — социолог из США. Он стал известен благодаря книге «Капиталисты поневоле». В ней Лахман доказывает, что капитализм в Европе появился как результат борьбы элит, а не классовой борьбы или иных факторов. Эта книга переведена на русский:
Ричард Лахманн. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени / Пер. с англ. А. Лазарева. — Москва : «Территория будущего», 2010. — 456 с., либо сдают землю в аренду фермерам-предпринимателям, тоже производящим товар на продажу. Общинные земли захватывают, а людей сгоняют с насиженных мест — знаменитое английское огораживание, произошедшее не в XVIII веке14Огораживания — это насильственное уничтожение общинной собственности на землю. Процесс шёл с XV по XIX века. Наиболее ярко он проявился в Англии.
В 1516 году Томас Мор написал «Утопию», где описал эти процессы так:
«Ваши овцы. Обычно такие тихие, питающиеся так скудно, ныне, как говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, опустошают и разоряют поля, дома, города». От него же пошла фраза «Овцы съели людей».
В 24 главе I тома «Капитала» Карл Маркс описывал огораживания как часть первоначального накопления капитала:
«Крупные феодалы, стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, создали несравненно более многочисленный пролетариат, узурпировав общинные земли и согнав крестьян с земли, на которую последние имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы. Непосредственный толчок к этому в Англии дал расцвет фландрской шерстяной мануфактуры и связанное с ним повышение цен на шерсть. Старую феодальную знать поглотили великие феодальные войны, а новая была детищем своего времени, для которого деньги являлись силой всех сил. Превращение пашни в пастбище для овец стало лозунгом феодалов»., как думает Варуфакис, а на 200 лет раньше — в горной Шотландии, правда, в связи с присоединением к Англии в конце XVIII века, действительно произошло своё огораживание, но это была весьма локальная история, не затронувшая даже шотландских равнин.
Важно, что именно тогда, в связи с распространением капиталистических отношений, происходит в Восточной Европе «второе издание крепостного права»15Второе издание крепостничества — так называют усиление крепостного права в Центральной и Восточной Европе в XVI–XIX веках. К тому времени в некоторых странах Европы распространились более лёгкие формы феодальной эксплуатации вместо крепостного права, поэтому его возвращение и усиление назвали «Вторым изданием». Новое крепостное право отличалось тем, что барщину крестьяне платили в основном деньгами, а не товарами., а в Америке развитие плантационного рабства16Рабство существовало с 1619 по 1865 годы на территории английских колоний в Северной Америке, а затем США. В основном рабский труд использовали на плантациях.. Принудительная собственность этих хозяйственных отношений в том, что крепостные и рабы (в отличие от крестьян феодальной эпохи) производят именно товарную продукцию, а использование принудительного труда превращается в конкурентное преимущество (о чём писали ещё Роза Люксембург и Михаил Покровский)17Смотри, например, работу Михаила Покровского «Русская история с древнейших времён» и труд Розы Люксембург «Накопление капитала».. Сохраняющиеся элементы феодального порядка капитализм постепенно вписывает в свою структуру и приспосабливает к своим потребностям (как в Англии) или насильственно устраняет (как во Франции).
Прибыль и рента не только не противостоят друг другу, а являются взаимодополняющими инструментами накопления капитала.
Собственно именно вопрос о накоплении капитала, принципиально важный для понимания буржуазного порядка и его перспектив, Варуфакис упускает, что сказывается на дальнейшем его анализе. Но об этом позже.
Крепостные?
Людей и фирмы, работающие на «облачный капитал», Варуфакис разделил на три категории: «облачные пролетарии», «облачные крепостные» и «вассалы». С пролетариями всё более или менее ясно. Компании, которые автор называет «вассалами», в самом деле попадают в зависимость от собственников платформ, хотя характер этой зависимости всё же иной, чем при феодализме. По сути, они являются арендаторами кусочков виртуального пространства и вынуждены отдавать долю прибыли, как они делают и в отношении собственников земли или производственных помещений, если не могут их выкупить для себя. А вот тема облачных крепостных нуждается в более подробном анализе.
Кто такие «облачные крепостные»?
С одной стороны, заполняя сети своей информацией и ведя через них свои дела, мы бесплатно делаем полезную работу для владельцев платформ, которые, впрочем, тоже предоставляют нам бесплатный доступ. Никто никого силой не принуждает, хотя, конечно, объективным фактором принуждения оказываются сложившиеся социальные отношения, требующие от нас жить по определённым правилам (тут, надо отметить, Варуфакис очень к месту цитирует Маркса). И всё же есть огромная разница между крестьянином, работавшим на барщине, и современным пользователем сетей, размещающим там фото своего кота или рассказ о проведённом отпуске.

Готов поверить, что, разглядывая хорошо вспаханное помещичье поле, крестьянин мог почувствовать удовлетворение. Но современные пользователи не только зачастую получают удовольствие от того, что делают, они сами решают — что и как размещать в сетях, какую информацию запрашивать. Бесспорно, всякий, кто знаком с психологией, легко найдёт здесь и манипуляции, и косвенные (а то и прямые) стимулы, чтобы люди делали именно то, что от них требуется. Никакой свободы в экзистенциальном смысле здесь нет и в помине. Но принципиально важно для нас в данном случае именно отсутствие непосредственного принуждения.
Никто насильно не держит пользователей в соцсетях. Пользователи свободно могут уйти с платформы.
Продолжая сравнение с крепостными, надо обратить внимание на возможность для пользователей переходить из одной сети в другую. Как известно, в России крепостное право восторжествовало лишь после того, как был отменён Юрьев день, позволявший земледельцам переходить из одной вотчины в другую. Порой, впрочем, и сами бояре пользовались Юрьевым днём, чтобы согнать с земли нерадивого работника или переманить к себе кого-то из соседских крестьян. Так или иначе Юрьев день для пользователей платформ пока никто не отменял, хотя в Китае уже прилагают значительные усилия, чтобы закрепостить пользователей в системе WeChat18WeChat — это китайский мессенджер. Его особенность в том, что это своего рода «Telegram», совмещённый с «Госуслугами».
В КНР WeChat используется повсеместно. Например, если ты хочешь попасть на площадь Тяньаньмэнь, тебе надо зарегистрироваться туда через WeChat: https://dzen.ru/a/ZxlhipqyCQsYG6xe, а российские чиновники сейчас явно пытаются перенимать китайский опыт. Однако на Западе ситуация всё же складывается иначе, а мы буквально в реальном времени можем наблюдать бегство пользователей из сети «X» (бывший Твиттер), после того как Илон Маск изменил там правила и провёл чистку персонала.
В Китае — WeChat, в России — Max. К счастью, пока ещё есть выбор, пользоваться «национальным мессенджером» или нет.
Сочетание собственного добровольного поведения пользователей с косвенным (и не всегда эффективным) принуждением и манипуляциями как раз создаёт неоднородную и противоречивую среду сетевой жизни. Отчасти тут воспроизводятся социальные противоречия, отчасти — противоречия, порождённые самой природой современных информационных технологий. Как тут не вспомнить идущую уже не первый год дискуссию марксистов — является ли персональный компьютер средством производства (орудием труда) или предметом потребления? На самом деле — и тем и другим одновременно. А это значит, что размывается и граница между рабочим и свободным временем, принципиальная для индустриальной эпохи, но не столь очевидная для традиционных обществ19На эту тему смотри книгу социолога из США Сильвии Федеричи «Калибан и ведьма: Женщины, тело и первоначальное накопление». В книге она доказывает, что процесс первоначального накопления сопровождался не только экспроприацией крестьянства, но и систематическим подавлением женщин. Книга переведена на русский..
Вместо эксплуатации рабочей силы — эксплуатация личности, её умственных и творческих способностей.
И дело не только в том, что офисный работник на службе играет в «Тетрис» или перестреливается с виртуальными монстрами, а потом из дома по телефону или с домашнего компьютера решает деловые вопросы, возникшие после его ухода с рабочего места, но и в том, что на смену эксплуатации только рабочей силы (т. е. способности к труду) приходит, как писали ещё М. Чешков и В. Крылов в конце 1970-х годов20Чешков Марат Александрович (1932–2016) — экономист, историк и политолог. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые особенности зарождения и формирования вьетнамской буржуазии». В 1985 году защитил докторскую диссертацию по истории на тему «Формирование правящих групп развивающихся стран: критика зарубежных концепций».
Крылов Владимир Васильевич (1934–1989) — советский обществовед. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Производительные силы развивающихся стран и формирование их социально-экономической структуры»., непосредственная эксплуатация личности, в том числе её индивидуальных когнитивных и творческих способностей. С одной стороны, на поверхности, труд становится менее отчуждённым, с другой стороны, по сути, отчуждение достигает нового глубинного уровня.
Утопия?
Заключительная часть книги Варуфакиса, озаглавленная «Побег из технофеодализма», являясь весьма приятным чтением, оставляет, однако, без ответа именно вопрос, вынесенный в заглавие: как из нынешнего положения дел выбраться и перейти в новое состояние?
Варуфакис так и не ответил: как же выбраться из технофеодализма? Зато нарисовал утопию.
Большая часть книги Варуфакиса написана в форме диалога с его умершим отцом (читая внимательно эти страницы, я невольно вспоминал собственные отношения с родителями, очень похожие на то, что описывает автор книги). Однако ближе к концу в тексте появляется ещё один персонаж из прошлого — консервативный лондонский маргинал, требующий от умного грека рассказать, как всё будет устроено при социализме. Лондонский паб, где происходит разговор, в самом деле, не лучшее место для подобных дискуссий, и автор книги честно признаётся, что растерялся, не сумев толком ничего ответить. Задним числом, пытаясь наверстать упущенное, он всё же берётся рассказать о жизни в будущем обществе. К сожалению, лондонский пьяница вряд ли будет читать «Технофеодализм» (да и читать книги вообще), а потому адресатом рассказа снова становится отец автора.
И да, картина получается очень симпатичная. Цифровые деньги избавляют нас от зависимости от банков (все транзакции проходят через один общий расчётный центр), информация общедоступна, виртуальные платформы принадлежат территориальным общинам, все компании организованы на основе самоуправления работников. В современном мире уже существуют подобные «бирюзовые компании», но они всё же являются частными предприятиями, а в утопии Варуфакиса они стали кооперативно-общественными.
Утопия Варуфакиса красивая, но он ни слова не сказал о планировании, инвестициях и о том, как определить приоритеты развития.
Не спорю, жить в таком мире было бы довольно приятно, но бросается в глаза, что в тексте нет ни слова о перспективном планировании, инвестициях, о том, кто и как будет определять приоритеты развития и распределять ресурсы. Рыночный социализм Варуфакиса оказывается слишком рыночным, а демократия слишком производственной: самоуправляющиеся компании общаются между собой в основном через рынок. А как быть с общественным интересом? Ведь сумма частных и групповых интересов никогда не равна интересу общества в целом — что мы хорошо знаем из истории капитализма.
Если, описывая современные порядки и власть облачной олигархии (которую автор, на мой взгляд, ошибочно обозвал «технофеодалами»), он почти не уделяет внимания процессу накопления капитала, составляющему основу для воспроизводства системы, то, перейдя к социализму, он так же оставляет без внимания механизмы развития, картина получается совершенно статичной. Как, впрочем, всегда бывает, когда сочиняешь утопию. В том-то и дело, что, во-первых, демократический социализм невозможен без демократического планирования, а во-вторых, потребность в планировании и координации программ развития порождена самой современной ситуацией глобального кризиса воспроизводства — независимо от того, каковы наши идейные воззрения.
Планировать и координировать развитие нужно, чтобы выйти из кризиса воспроизводства. Сделать это можно при помощи демократического планирования.
Боюсь, что, если бы Варуфакис вернулся в лондонский паб и, найдя там своего полупьяного собеседника, всё же попытался ему изложить своё видение будущего, он всё равно не убедил бы его, ибо неминуемо нарвался бы на вопрос: «Всё это прекрасно, но как туда добраться?» Как преобразовать не воображаемые, а уже существующие корпорации и платформы? Как добиться социализации финансовых институтов и процессов? Неминуемо встаёт вопрос о политике и о возвращении демократическим органам экономической власти, о создании общественного сектора в сфере производства.
На эти вопросы приходится отвечать уже не построением красивых утопий (хотя именно так рождаются многие полезные идеи), а практикой. И, увы, политическая практика современных левых весьма слаба, а потому слабы и позиции в подобных дискуссиях.
Разговор о социализме будущего надо начинать с проблем современного общества.
Тем не менее, сталкиваясь с подобными вопросами, я всегда иду путём прямо противоположным тому, которым пошёл автор «Технофеодализма», — я предлагаю говорить именно о текущих проблемах. Ведь, совершая шаги, преобразующие ситуацию сейчас, мы как раз и формируем черты, которые определят характер будущего общества. Если же говорить о неприятном, то меры по организации силовых структур ВЧК в годы Гражданской войны повлияли на развитие советского общества куда больше, чем идеи Ленина о вооружении народа и самоуправлении, изложенные в «Государстве и революции». Именно поэтому, услышав в очередной раз вопрос «А как это будет?», я предлагаю самому собеседнику сформулировать 5–6 волнующих его вопросов, которые не решаются в современном обществе. Список может варьироваться от климатического кризиса и проблем миграции до свободы научных исследований и доступа ко всё тем же платформам. Затем я последовательно объясняю подходы левых к решению этих конкретных проблем. И если мои ответы кажутся ему разумными и привлекательными, а главное — убедительными, предлагаю: теперь «Сложите всё это вместе». То, что получится в итоге, и есть картина нового общества. Думаю, отец Яниса Варуфакиса меня бы одобрил. По крайней мере, мой отец учил меня именно так.
Переломная эпоха?
Раскритиковав стремление Варуфакиса сравнивать развитие «облачного капитала» с феодализмом, я не могу удержаться от соблазна всё же продолжить предложенное им сравнение, но уже в совершенно ином смысле. Удивительным образом современный поздний капитализм в самом деле воспроизводит многие структуры и практики капитализма раннего. В этом проявляется переходный характер нынешней эпохи. И вспоминая то, что я знаю про начало аналогичного перехода — в XV веке, живо представляю себе, как некий учёный грек приехал из находящейся в упадке, но просвещённой Византии преподавать в западноевропейском университете (не в провинциальном ещё тогда Лондоне, но в прекрасной Болонье или даже в Риме), наблюдая возникающие у него на глазах новые явления, пытался бы осмыслить их, апеллируя к ещё более раннему опыту, например — к греко-римской античности. То, что нам сегодня может показаться возвращением феодализма, из перспективы того времени могло бы показаться возрождением римской товарной экономики — не случайно в это время феодальные нормы заменяются системой римского права.
История про учёного грека не совсем моя фантазия: таких интеллектуалов византийского происхождения в Италии XV века было множество, и они оставили богатое теоретическое наследие, ныне, к несчастью, почти забытое. Но зачем я всё это тут рассказал? Не только для того, чтобы завершить статью банальным тезисом о том, что «ничто не ново под луной», а для того, чтобы напомнить: через все беды и конфликты прежнего переходного периода человечество всё же вышло к порядку, нами сегодня жёстко критикуемому, но всё равно открывшему новые перспективы для развития общества и свободы. Будем надеяться, что так же случится и на сей раз.
После феодализма капитализм дал обществу новые перспективы развития. Но это ведь не конец истории — пора выйти на новый этап.
Феодальная рента — дополнения Бориса Кагарлицкого
Незадолго до публикации мы решили уточнить у Бориса Юльевича, можно ли барщину и оброк считать «феодальной земельной рентой», как делали марксисты в СССР. Ниже — наше письмо и ответ на него.
Вопрос «Спички»
Борис Юльевич, здравствуйте!
Хотели ещё момент уточнить по поводу «Технофеодализма», чтобы не возникло путаницы.
«С точки зрения Варуфакиса, феодализм — это экономика, построенная на ренте. Но, увы, в истории всё обстоит прямо противоположным образом».
«В классическом феодализме, во-первых, всё построено на непосредственном изъятии феодалами натурального продукта у крестьян, которые пашут землю на барщине или приносят оброк в виде продукции своего хозяйства».21Цитаты из данной публикации. Смотри главу «Феодализм?»
Но разве барщина и оброк — это не феодальная земельная рента? Во всяком случае, в советском марксизме барщина, натуральный и денежный оброки объединяются понятием «земельная рента».
Ответ Кагарлицкого
Теперь насчёт феодализма. Ключевое понятие феодального права не собственность, а «владение». Оно, кстати, есть и в дореволюционном русском праве. Владение условно и ограниченно. А с другой стороны, есть понятие повинностей. И оброк, и барщина являются именно повинностями, причём их может быть много и разных, они возлагаются на конкретные семьи, общины или группы, причём ряд повинностей может быть совершенно не экономическими. По крайней мере, не связанными с извлечением прибавочного продукта. Так, профессора New College в Оксфорде обязаны следить за состоянием городской стены. Мой родственник и коллега Андрей Зорин22Андрей Леонидович Зорин — литературовед. С 2004 года профессор Оксфордского университета в Англии, к которому относится и New College. страшно ругался, когда там работал: надо было лезть на стену, проверять, нет ли обветшалых участков, писать потом подробный отчёт и так далее. Зато стена с XIII века до наших дней благополучно стоит.
Ключевые понятия феодального права — «владение» и «повинности».
Владение отличается от собственности тем, что оно ограничено вышестоящим феодалом.
У феодалов были, в свою очередь, обязательства перед общинами, в том числе по совместному использованию разных ресурсов, охотничьих угодий и других. Рыцарь без разрешения вышестоящего сеньора не мог даже укрепить свой замок, требовалось получить «лицензию на зубцы».
Начиная с конца XII века феодалы, в самом деле, стремятся превратить владения в собственность, избавившись от обязательств, которые сопряжены с использованием владений, то есть попросту приватизировать доверенное им имущество. Одновременно нарастает и тенденция к монетизации крестьянских обязательств, замене натуральных повинностей выплатами. А крестьяне этому активно сопротивляются, поскольку серебра у них просто нет. По сути, феодал выталкивает крестьян на рынок — и в буквальном, и в экономическом смысле. Тем самым он подчиняет деревню городу, а традиционный уклад — городскому, буржуазному. Но крестьяне сопротивляются.
С конца XII века феодалы стремятся превратить владения в собственность, избавившись от обязательств.
Баллады о Робин Гуде не про то, что он грабил богатых, а отдавал бедным — там весьма подробно описано как раз сопротивление монетизации и приватизации. В том числе — сбору налогов в денежной форме, что было важнейшим инструментом рыночных реформ, проводимых государством. Тут, кстати, интересна датировка действия баллад. В более ранних версиях действие происходит в конце XIII — начале XIV веков, а в более поздних относится назад к концу XII — началу XIII веков. Почему? Видимо, к концу XIV века сопротивление монетизации было сломлено и всё это воспринималось уже как «преданья старины глубокой».
В советском марксизме относительно феодализма вообще были крайне упрощённые, а часто даже фактически неверные представления, связанные со стремлением представить русское крепостничество XVIII–XIX веков как «пережиток феодализма», а не форму принудительного труда, специфическую для торгового капитализма (по Покровскому).
Всего доброго,
Борис Кагарлицкий
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
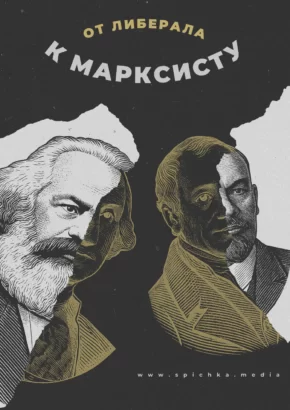 Марксист в отражении либерала. Мой опыт
Твой друг — либерал? Делай как я и смотри, что будет
Марксист в отражении либерала. Мой опыт
Твой друг — либерал? Делай как я и смотри, что будет
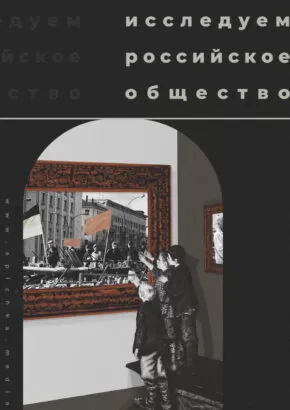 Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
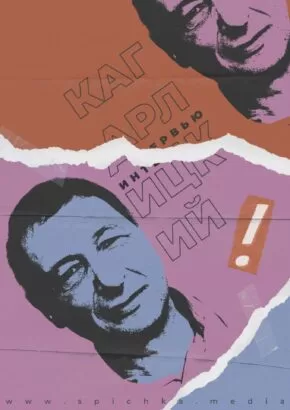 Борис Кагарлицкий* о перестройке
Борис Юльевич* рассказал нам, как он участвовал в перестройке и почему она, по его мнению, провалилась
Борис Кагарлицкий* о перестройке
Борис Юльевич* рассказал нам, как он участвовал в перестройке и почему она, по его мнению, провалилась
 Коммунизм есть кагарлицкая власть плюс диванизация всей страны
Критикуем Навального*, Кагарлицкого** и Сёмина — что надо, а что не надо делать на митингах
Коммунизм есть кагарлицкая власть плюс диванизация всей страны
Критикуем Навального*, Кагарлицкого** и Сёмина — что надо, а что не надо делать на митингах