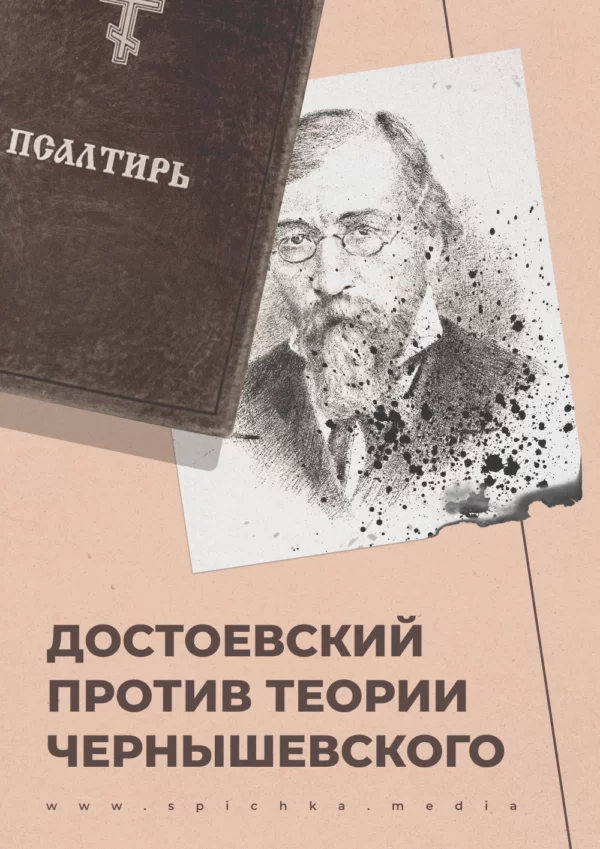
Достоевский против теории Чернышевского
Содержание
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
Читаешь романы Тургенева и Достоевского 1860-х годов и видишь, как персонажи в них словно критикуют теорию «разумного эгоизма» Чернышевского. Она обличается даже в пьесе «Живой труп» Толстого 1900 года. Актуальная была тема!
Откроем «Записки из подполья» и «Зимние заметки…» Достоевского. В них говорится, что если подчинить человека расчётам разума — на чём и настаивал Чернышевский, — то это превратит человека в «органный штифтик».
Достоевский прав: человек не может быть полностью рациональным — но понял он Чернышевского не до конца. Полемика было сложной, и мы обсудили её в статье. Покритиковали и Чернышевского — за то, как он понимал человека и его роль в истории.
В статье рассматривается, но почти не формулируется теория «разумного эгоизма». Мы кратко сформулировали её в отдельной статье, знакомиться с которой желательно, но необязательно.
Достоевский — критик Чернышевского
Памфил Юркевич, богослов, критика Чернышевского, соглашался с основным положением теории «разумного эгоизма»1Юркевич писал: «Наш сочинитель выдаёт за аксиому, “что человек любит приятное и не любит неприятного”, и мы согласны с ним; в этом отношении случай сынов человеческих и случай скотский, случай един им (Еккл. 3, 19)» (Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 167.)., но просто пытался исправить её. Достоевский же отвергал попытки Чернышевского выстроить какие бы то ни было этические системы. Например, он — кажется, словами протагониста — писал в «Записках из подполья» (1864 г.):
«Своё собственно, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздражённая иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чёрту»2Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 113..
Какая угодно выверенная мысль «разлетается к чёрту», по идее Достоевского, потому что человек готов пойти против любой выгоды и разумнейшей теории исключительно для того, чтобы «…иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного»3Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 115..
Критика Достоевского было глубокой, но, мне кажется, во многом неверной.
Во-первых, он, если слова главного героя — его слова, выдвигал посылку: «Повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего…»4Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 115., — которую он, однако, совершенно не доказывал, выставляя её априорной. Юркевич, критикуя Чернышевского, справедливо сказал, что верить можно во что угодно, но сути дела это не меняет.
Во-вторых, даже если представить, что Достоевский был прав в своей посылке, то есть в том, что человек решается как бы то ни было портить себе жизнь, лишь бы иметь право портить её, — призывал ли Чернышевский к тому, чтобы человек не был вправе портить её?
Да, в «Антропологическом принципе…» (1860 г.) Николай Гаврилович заострял мысль на том, что воля человека всецело «…зависит от обстоятельств, отношений, учреждений», и так он делал свои этические заключения уязвимыми для критики. Хотя, о чём я уже писал5Почитай, например, прошлую статью «Добро и зло Чернышевского», раздел «Неизменчивость человека: примеры обратного из жизни Чернышевского»., Николай Гаврилович и в этой, и в других статьях не сводил — скорее всего, невольно — желания и стремления человека к среде, его окружающей, и говорил:
«…безрассудства делаются только в двух случаях: или сгоряча, в минутном порыве, или когда человек не имеет свободы, раздражается сопротивлением»6Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 380. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Достоевский, в свою очередь, не вник в суть посыла «Антропологического принципа…», хотя обвинять его в этом, как мне кажется, не стоит: сам Чернышевский не заботился о точности своих формулировок, так как усердно участвовал в полемиках.
Справедливости ради в романе «Что делать?» (1863 г.), вышедшем до «Записок из подполья» (1864 г.), имелась мысль:
«Помните, что человек может рассуждать только тогда, когда ему совершенно не мешают, что он не горячится только тогда, когда его не раздражают; что он не дорожит своими фантазиями только тогда, когда их у него не отнимают, дают ему самому рассмотреть, хороши ли они»7Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 384. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).,
— так рассказчик объяснял действия Лопухова, который не мешал Верочке сильнее влюбляться в Кирсанова, например, обсуждая с ней её чувства; он просто ждал, когда она сама откроет их в себе. Это ли не уважение к воле и желаниям человека? Чернышевский, вопреки своим изречениям из полемических статей, не призывал лишить людей «самой выгодной выгоды», по выражению Достоевского, то есть права поступать самостоятельно.
«Подпольные» герои Фёдора Михайловича приводили и другие возражения против всякой теории, которая пытается научить человека «правильно» жить.
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1853 г.) протагонист говорил:
«Да ведь разум оказался несостоятельным перед действительностью, да, сверх того, сами-то разумные, сами-то учёные начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не существует на свете, что отвлечённая логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не было; что это только неосновательная выдумка восемнадцатого столетия»8Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 78.,
— а в «Записках из подполья» (1864 г.) он, переродившись, как мне кажется, в другого героя, продолжал:
«Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале?»9Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 114.
В своих произведениях Достоевский «…стремился показать, что зло существует в мире не только и не столько из-за плохих условий, неправильного устройства общества, нищеты, необразованности… а потому, что склонность к злым поступкам, мыслям и словам укоренена в природе человека, искажённой первородным грехом»10Сокурова О. Б. Философия свободы в творчестве Ф. М. Достоевского // Русско-Византийский вестник. — 2022. — № 2. — С. 30., — утверждает доктор культурологии Ольга Сокурова.
Мне кажется, что в этом, религиозном стремлении отстаивалась здравая мысль, что человек человеку «насильно мил не будет». Достоевский противился идеям мыслителей, которые возвеличивали разум или вовсе сводили к нему сущность человека; он в противовес этой мысли доносил свою — о том, что невозможно просчитать «тайну человека» и сделать его «штифтиком» в чьих бы то ни было руках. Если поместить человека в хрустальный дворец, который виделся Верочке в четвёртом сне11«Невеста всех сестёр» во сне Верочки изображала хрустальный дворец, в котором будут жить люди будущего, — например, так:
«Вот что они ещё придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты вокруг него растянут белый полог. “Он постоянно обрызгивается водою, — говорит старшая сестра: — видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождём вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они изменяют температуру, как хотят“. — “А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?“ — “Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я всё для этого только и работаю“. — “Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?“ — “Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего…“» (Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 357. — Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)., то он, оказавшись в нём, испытывая безмятежность, будет несчастен, лишится возможности определять своё счастье. Оттого мысль Достоевского и «стремилась всегда быть живой»12Сокурова О. Б. Философия свободы в творчестве Ф. М. Достоевского // Русско-Византийский вестник. — 2022. — № 2. — С. 43..
Так Фёдор Михайлович через посредство жизней своих героев воспринимал теорию «разумного эгоизма».
Чернышевский и диалектика в истории
Чернышевский: человек определяется средой
Кажется, Чернышевский в статье «Антропологический принцип…» (1860 г.) действительно полагал, будто можно предопределить желания человека и выяснить, как разумнее всего добиваться ему лучшей доли:
«Станут ли когда-нибудь хорошими хозяевами русские сельские хозяева, до сих пор бывшие плохими хозяевами? Разумеется, станут; эта уверенность основана… на том, что настанет надобность русским сельским хозяевам вести свои дела умнее и расчётливее прежнего. От надобности не уйдёшь, не отвертишься»13Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 295..
«Необходимость вещей», которая будет создавать разные надобности, станет побуждать людей, по мнению Николая Гавриловича, изменять окружающую реальность.
Только неясно, кто произведёт эту «необходимость вещей», ведь «…если среда определяет человека, то что определяет среду?»14Руденко Ю. К. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. — Л.: изд-во ЛГУ, 1979. — С. 37.
Критика Чернышевского: кто определяет среду человека?
Вопрос, казалось бы, очевидный, но им не задавались ни ранний Чернышевский, ни Фейербах, для которого — а значит, в некоторой мере и для раннего Чернышевского, — «общность, единство человека с человеком» были даны от природы15Фейербах непоследовательно смотрел на историю человечества. В основном он, по выражению Плеханова, «не вставал на точку зрения развития», то есть не рассматривал общество в развитии, от низших в развитии его форм до высших, видел его не меняющимся, а данным, сводил его к «гражданскому обществу» нескольких людей.
Иногда Фейербах преодолевал ограниченность своего взгляда на историю и писал: «Я мыслю только как субъект, воспитанный историей, обобщённый, соединённый с целым, с родом, с духом всемирной истории; мои мысли имеют своё начало и основание не непосредственно в моей особенной субъективности, они представляют результаты; их начало и основание есть начало и основание самой всемирной истории» (Цит. по: Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. — 3-е изд. — М. ; Л. : Гос. изд., 1929. — Прим. 18.).. В самом деле, если Я и Ты даны в их единстве16Онтологические взгляды Фейербаха и Чернышевского я рассматривал в большой статье «Основание теории “разумного эгоизма”»., то спрашивать, что создало единство Я и Ты, — значит отходить от мысли, что это единство предопределено; для Фейербаха подобно тому, как по священному писанию мир создавался Богом, единство Я и Ты создавалось природой.
Мысль о том, что узкий материализм, объясняющий человека — с головы до ног — средой, неверна, закрадывалась в сознания многих философов, например Гегеля17Арсений Гулыга, доктор философский наук, так передавал мысль Гегеля о том, что нет только предопределённого или только предопределяющего, что в истории они суть одно и то же: «Господство раскрывается как рабство, а последнее в своём осуществлении становится противоположностью тому, что оно есть непосредственно. Рабское состояние приводит к возникновению самосознания, к борьбе за свободу; чем тяжелее рабство, тем ожесточённее попытки разорвать оковы» (Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. — 2. изд., испр. и доп. — М. : Рольф, 2001. — С. 246. — Серия: «Библиотека истории и культуры».)., но определённо её выразил Маркс в третьем тезисе «Тезисов о Фейербахе» (1845 г.):
«Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания… забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан»18Цит. по: Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. — 3-е изд. — М. ; Л. : Гос. изд., 1929. — С. 28..
Человек одновременно создаётся обстоятельствами и создаёт обстоятельства; объективно, а не «познавательно»19Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 316., то есть не с позиций исследователя, здесь нет ни первичного, ни вторичного; этой мыслью выражается процесс, не обладающий в себе самом ни началом, ни концом.
Стоит лишь помнить, что человек, как и обстоятельства его жизни, материален, существует в материальном мире — обществе, основанном на природе.
Если последовательно рассуждать, не удастся выставить одно или другое «первичным» или «вторичным» — сказать, например, что нет никого, кроме Я, или упорно следовать мысли, что человек — слепок общественных отношений.
На деле человек, материальное существо, идеальный, то есть мыслящий, сознательный, целеустремлённый, и относительно самостоятельный. Маркс писал в 1873 году:
«Для Гегеля логический процесс, превращающийся у него под именем идеи в самостоятельного субъекта, есть демиург действительности, которая составляет только его внешнее проявление. Для меня же — как раз наоборот: идеальное есть переведённое и переработанное в человеческой голове материальное [то есть человек в своём “логическом процессе”, в собственной реальности, для себя самого, есть “демиург действительности”. — А. П.]»20Цит. по: Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. — 3-е изд. — М. ; Л. : Гос. изд., 1929. — С. 31.,
— или, как говорил Маркс в первом томе «Капитала»:
«Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю»21Маркс К. Капитал. Том первый // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1955–1981. — Т. 23. — С. 189..
Противоречивость, но прогрессивность идей Чернышевского
Поздний Чернышевский пошёл дальше Фейербаха — вероятно, неосознанно, и этого не заметил Юркевич в своей критике22Как Юркевич критиковал Чернышевского, я так или иначе рассматривал в каждой статье об этике «разумного эгоизма». Почитай, например, статью, которая так и называется — «Критика теории “разумного эгоизма”»., — ибо в сочинениях Николая Гавриловича, написанных после середины 1850-х годов, почти незаметно утверждалась идея о том, что человек не только воспитывается условиями человеческого быта, но и создаёт его.
Для позднего Чернышевского, даже если он определённо это не заключал, человек не был продуктом сугубо общественных обстоятельств.
Юркевич критиковал Николая Гавриловича за то, как он рассуждал в одних местах «Антропологического принципа…» (1860 г.), но не видел того, как он рассуждал иначе в других местах той же статьи. К примеру, после фразы о том, что несправедливо бранить или хвалить натуру человека за добро или зло, совершаемое ей, Чернышевский утверждал:
«Самым изобильным источником обнаружения злых качеств служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей, что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только тогда, когда принужден лишить их чего-нибудь, чтобы не остаться самому без вещи, для него нужной»23Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 265–266..
«Почти только тогда» означало «не всегда»; Чернышевский словом «почти» именно оговаривался, что человек властен над собой иногда; а «почти только тогда», то есть зачастую, он не властен над собой в том смысле этого выражения, что вынужден поступать вопреки своей воле, по нужде.
Ещё в «Антропологическом принципе…» Чернышевский говорил, что человеку по силам добиваться «известных улучшений»:
«…половина дела зависит только от того, чтобы человек с достаточною силою почувствовал надобность в известном улучшении: это чувство уже даёт ему очень значительную часть условий, нужных для улучшения»24Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 265..
«Значительная часть условий, нужных для улучшения» — желание и воля человека; хочет и готов ли он менять себя и окружающую его жизнь. Если хочет и готов, то половина дела, по мнению Чернышевского, сделана — осталась другая половина его. Какая это половина, Чернышевский, вероятно, устами героев объяснял в романе «Что делать?» (1863 г.) — который, однако, вышел уже после критики Юркевича (1860 г.).
В главе «Теоретический разговор» Дмитрий Лопухов и Александр Кирсанов обсуждали, как разрешить проблему «трёх тел», с которой они столкнулись, — как добиться того, чтобы Верочка осознала, кого из них она любит больше, и в результате не стала горевать от своего открытия.
Лопухов чувствовал, что Кирсанов любит Верочку, а Верочка — Кирсанова. Однажды во сне, по настоянию невесты всех женихов, сестры всех сестёр, она спрашивала себя: «Сходны ли наши [с Лопуховым. — А. П.] натуры, наши потребности? Он готов умереть для меня, — и я для него. Но довольно ли этого? Мыслями ли обо мне живёт он? Мыслями ли о нём живу я? Люблю ли я его такою любовью, какая нужна мне?»25Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 226. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.). — и Дмитрий желал помочь Верочке ответить на эти вопросы самостоятельно, потому что любил её.
Лопухов настаивал, чтобы Кирсанов чаще гостил у них и виделся с Верочкой:
«Какое право имеешь ты, — начал Кирсанов голосом ещё сильнейшего негодования, чем прежде, — какое право имеешь ты требовать от меня того, что для меня тяжело? Чем я обязан перед тобою? И к чему это? Это нелепость. Постарайся выбить романические бредни из твоей головы»26Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 237. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
«То, что мы с тобою признаём за нормальную жизнь, будет так, когда переменятся понятия, обычаи общества. Оно должно перевоспитаться, это так. Оно и перевоспитывается развитием жизни. Кто перевоспитался, помогает другим»27Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 237. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Александр сердито воспринимал слова Дмитрия, потому что считал его настойчивость глупой: если бы он согласился с ней, то у Верочки отнялось бы спокойствие жизни — было рано, по мнению Кирсанова, столь расчётливо, то есть «разумно», добиваться любви: не переменились ещё понятия и обычаи общества. «Научный анализ показывает: благородное, подобно доброму, подобно честному, лишь видоизменение разумного»28Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским около 1 марта 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 155., — в 1878 году писал сыновьям Чернышевский. Верочка не была готова признать, что она любит другого, и полюбить его открыто. Значит, навещать Верочку и будоражить её чувства значило действовать неразумно, то есть несообразно общественным условиям: «Сила человека — разум. Это общепризнанная истина. К чему ж ведёт, когда так, пренебрежение разумом? — К бессилию»29Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским около 6 апреля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 264..
Кирсанов ответил Лопухову: общественные обычаи и нравы не перестроить, если не поменяется общество, — потому, объяснял Чернышевский в письме 1878 года, что «Масса людей — люди, как все мы; но люди, довольно слабые во всех своих хороших качествах; во всём своём хорошем держащиеся недурно лишь при поддержке общественным мнением»30Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским около 6 апреля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 263..
При этом господствующие порядки никогда не перестроятся, если не менять себя, потому что знание того, как менять окружающий мир, «…не будет иметь ни глубины, ни точности», если не изучить «…сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем самосознании… Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей»31Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 426., — писал Чернышевский в рецензии 1856 года.
«Перевоспитываем себя, помогаем перевоспитываться другим», — так рассуждали разумные эгоисты Лопухов и Кирсанов.
Другие люди сами не перевоспитываются, потому что не видят ничтожности своего эгоизма, но это, по мнению Чернышевского 1858 года, не вина, а беда их, так как «…не думать о беде может только тот, кто не видит её»32Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 189. — или, словами Верочки из романа «Что делать?» (1863 г.): «Я не буду говорить вам, что это бесчестно: если бы вы были способны понять это, вы не сделали бы так»33Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 51. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Это не значит, что Чернышевский, и ранний, и поздний, не возлагал ответственности на людей, оказавшихся в беде, за их стремления и деяния. Он не одобрил бы жизнь Катюши Масловой, героини романа «Воскресение» Льва Толстого (1889 г.), за то, что она была проститукой; возможно, даже почувствовал бы к ней омерзение:
«Извини, что я буду говорить о женщинах, торгующих собою на улицах [Николай Гаврилович обращался в письме к жене в 1878 г. — А. П.]. Почти все они — пьяницы; почти все воровки; о том, что почти все они — бессовестные лгуньи, и толковать нечего»34Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской около 15 марта 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 210..
Эти слова Чернышевского не означали, что он не жалел людей, не видевших беды своей. Он понимал — в ранних сочинениях — редко, в поздних — часто, — что иногда обстоятельства могущественнее воли человека, ведь недаром «Из тысяч красавиц простолюдинок одной удаётся выйти в светское общество»35Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской около 31 марта 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 241. (из письма 1878 г.), — «А с господами приятелями тех жалких бедняжек [проституток. — А. П.], — о, как я говорил всегда! — “Тех женщин я уважаю; а сволочь — это вы, господа”. И правда: каковы бы ни были те бедняжки, но “сволочь” — не они, а их приятели. Их приятели, мерзавцы, таковы, что тем бедняжкам приходится падать в грязь, где изволят свинствовать те господа»36Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской около 15 марта 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 211. (из письма того же года). Если Чернышевский и мог назвать проституток жалкими эгоистками, то уже не в обвинительном, а в сочувствующем смысле этого выражения, — женщинами, достойными сострадания и помощи.
Чернышевский — скорее невольно, чем сознательно, если говорить с большой долей условности, — так представлял роль личности в истории: обстоятельства сильны, но человек, отвечая за свои действия, может бороться с ними, если у него есть на то силы.
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
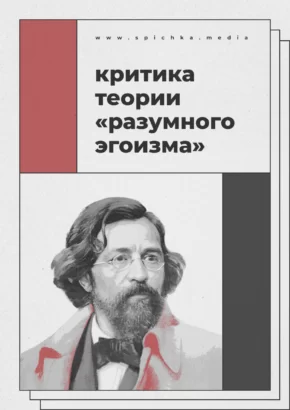 Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
 Йорис Ивенс и реализм в кино
Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра
Йорис Ивенс и реализм в кино
Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра
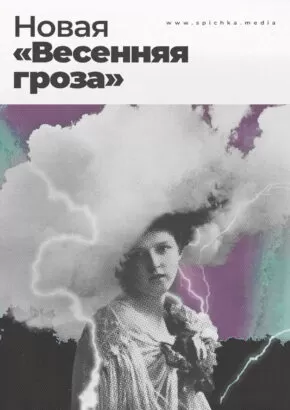 Новая «Весенняя гроза»
Зачем понимать искусство и каким должен быть художник — на примере «Весенней грозы» Тютчева
Новая «Весенняя гроза»
Зачем понимать искусство и каким должен быть художник — на примере «Весенней грозы» Тютчева
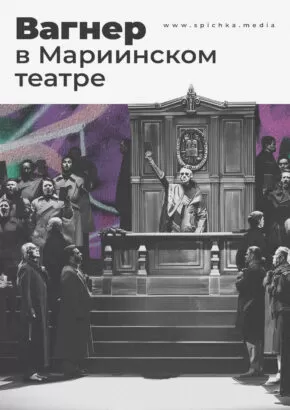 Вагнер в Мариинском театре
Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере
Вагнер в Мариинском театре
Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере