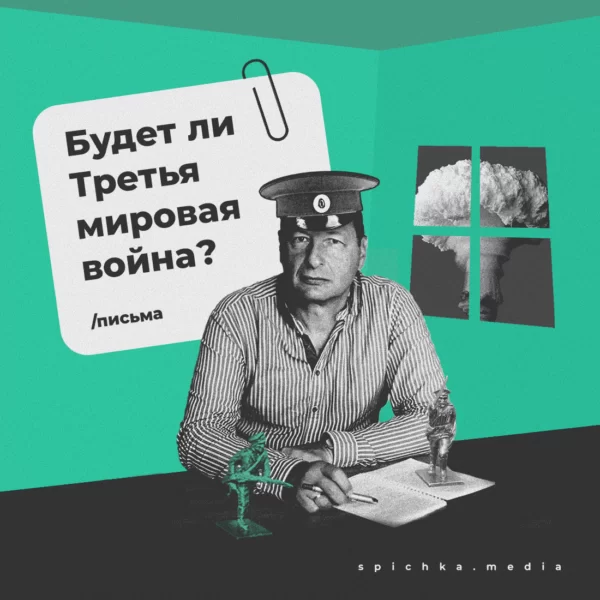Ждать ли новой мировой войны? — Кагарлицкий* из тюрьмы отвечает «Спичке»
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДËН, РАСПРОСТРАНËН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.
Мы пообщались с Борисом Юльевичем через ФСИН-письмо. Задали ему вопрос: ждать ли новой мировой войны? Если кратко, то его позиция: «Третьей мировой не будет, но будет такая борьба за мир во всём мире, что камня на камне не останется».
Полный ответ Бориса Юльевича и позицию редакции «Спички» — читай дальше.
Кратко передаём содержание двух писем Бориса Юльевича — от 4 и 24 октября 2024 года.
В Первую мировую боролись сформированные блоки — сегодня таких нет.
Китай сохраняет идеологическую напряжённость с Западом, чтобы объединять нацию. Но он зависит от западных рынков, поэтому не готов к войне.
Сейчас в мире «поздняя холодная война»: Китай и США наращивают вооружения, но продолжают торговать. Вместо новой мировой войны нам грозит череда локальных конфликтов с огромными жертвами. А затем — революции или радикальные реформы.
Предисловие «Спички»
Многие марксисты, в их числе Константин Сёмин, с самого начала СВО заговорили о новой мировой войне.
С 2022 года обострились локальные конфликты, которые тлели десятилетиями: Украина, Газа, Нагорный Карабах, турецкие курды — это лишь самые известные конфликты последних лет. Да, ситуация напоминает предысторию 1914 года. Тогда число локальных конфликтов росло и в какой-то момент количество перешло в качество. Началась Первая мировая война.
С самого начала 2022 года Борис Кагарлицкий придерживался иной, чём Сёмин, позиции. Он говорил, что ситуация больше походит не на 1914 год, а на Крымскую войну 1853–1856 годов. Тогда «маленькая победоносная» превратилась в катастрофу для России.
Итогом поражения Российской империи стали реформы во всех областях, в том числе отмена крепостного права.
С июля 2023 года Борис Кагарлицкий редко бывает онлайн и не ведёт стримы. Общаться с ним приходится через ФСИН-письмо. В конце 2024 года нам стало интересно, как теперь Борис Юльевич оценивает вероятность новой мировой войны. Это мы и спросили у него.
Сегодня публикуем два письма Бориса Юльевича.
Первое письмо — его ответы от 4 октября 2024 года. Ранее мы передавали их «Рабкору» для публикации.1Мы публикуем только ту часть этого письма, где Борис Юльевич пишет про различия между ситуацией перед Первой мировой войной и ситуацией, что происходит в мире сегодня. Полную версию письма читай на «Рабкоре» — там ещё есть вопросы про выборы Трампа, США и Китай.
Борис Кагарлицкий о выборах в США, Трампе, мирных переговорах и радикальных изменениях // Рабкор, 04.11.2024: https://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2024/11/04/kagarlitsky-about-the-us-elections-trump-peace-negotiations-and-radical-changes/
* Борис Юльевич Кагарлицкий признан в России иностранным агентом.
Второе письмо — дополнение к первому. Его Борис Юльевич написал 24 октября 2024 года. Кагарлицкий подробнее объяснил, почему текущая ситуация не похожа на события перед Первой мировой. Письмо публикуется впервые.
Аргументация Бориса Юльевича заставила задуматься нас и о собственных позициях. Вероятно, он прав.
Мировой войны не будет. Вместо неё — множество локальных кровопролитных конфликтов.
Вряд ли от локальных конфликтов миллионам людей станет лучше, но эти конфликты точно изменят мир и общество. И насколько новый мир будет «красным», зависит и от нас с вами, от того, как мы сможем подготовиться к переменам.
Переписка с Кагарлицким
Первое письмо
«Спичка»: В последние несколько лет обостряются конфликты, которые тлели до этого долгие годы. Не напоминает ли это ситуацию перед Первой мировой войной?
Б. Ю.: Сравнение с Первой мировой войной, вернее с предшествовавшим ей периодом, я встречаю уже давно в самых разных текстах. И в самом деле, черты сходства есть. Первой мировой войне предшествовала как раз беспрецедентная глобализация экономики, завершившаяся исчерпанием рынков. Как следствие, рост конкуренции и, как говорили марксисты того времени, обострение межимпериалистического соперничества. Естественно, только либертарианцы считают, будто рынки функционируют сами собой. В действительности, рыночная конкуренция неминуемо подстёгивает противостояние политическое, причём в самых жёстких формах.
Рыночная конкуренция неминуемо подстёгивает политическое и военное противостояние.
Но это — про сходство. Есть и фундаментальные различия. Начнём с того, что в начале ХХ века сложились более или менее устойчивые блоки: Германия и её союзники против старых империй (Англия, Франция и Россия), к которым примкнули Соединённые Штаты, правящий класс которых выбрал на тот момент неагрессивную стратегию. Вместо того чтобы попытаться оттеснить Британию с позиций мирового гегемона, США начали её поддерживать, одновременно замещая её в данной роли. Сначала частично.
Важно, что ареной соперничества были одни и те же территории, одни и те же рынки. Сейчас ситуация качественно иная. По правилам конца ХХ века пытается играть только российская элита, а ситуацию в таких категориях продолжают анализировать лишь некоторые отечественные марксисты-догматики. Дело в том, что Китай вообще не стремится к гегемонии в миросистеме, он лишь формирует вокруг себя китаецентричное экономическое пространство, используя весь остальной мир как источник ресурсов. Разумеется, нужно вывозить товары — в Европу, в США, в Россию. Но китайский капитал не формирует сознательно новые рынки, не пытается их переформатировать, он лишь их использует. Рост Китая становится разрушительным для миросистемы, но именно потому, что нет даже попыток борьбы за гегемонию. Ведь гегемония — это не просто господство, а упорядоченная организация, развитие системы. Тут ничего такого нет. Для США война с Китаем не имеет перспектив, что не решает главной проблемы: пока существует неолиберальный режим глобальной торговли, Китай будет его использовать. А если его изменить, то нужно радикально менять всю систему. Трамп [в свой первый срок — прим. «Спички».] пытался вводить протекционистские меры (что болезненно для китайского капитала), но менять систему не собирался даже реформистски (про революцию я уже не говорю). Так ничего не получится.
Кризис нарастает, он будет сопровождаться локальными войнами, а потом и чередой революций. В общем, как в старом советском анекдоте:
«Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что мало не покажется».
«Спичка»: Видите ли вы угрозу новой мировой войны? Может ли война Израиля и Палестины стать причиной мировой войны?
Б. Ю.: Из того, что я сказал раньше, логично следует, что конфликт на Ближнем Востоке в мировую войну не перерастёт. Не в последнюю очередь из-за позиции Китая, которому война не нужна. Он у Запада ничего не собирается отвоёвывать. Это не миролюбие, а высокомерное безразличие. Китаю нужен покой, тем более что внутреннее положение Поднебесной далеко не так прочно, как кажется. Парадокс в том, что военные конфликты затевают именно региональные игроки, стараясь втягивать туда сверхдержавы — США и Китай да и вообще всех, кого можно. Правящая клика в Израиле защищает себя от растущего недовольства в стране, переводя общественное внимание на войну с внешним врагом, такова политика Нетаньяху. Но это на самом деле не нужно ни США, ни Китаю, ни даже Ирану. Вообще парадокс: силы, считавшиеся безответственными и радикальными — Хезболла, Иран, – проявляли сдержанность, а Израиль (вроде бы цивилизованная демократия) демонстрирует полную невменяемость.
Я уже писал о сходстве нашей ситуации и того, что происходит в Израиле.
Нетаньяху понимает, что любое завершение войны — конец его власти.
В России мы видим влиятельные силы, рассуждающие аналогичным образом. И если вернуться к ситуации с Ливаном, то война ведётся не для победы над Хезболлой, а ради недопущения мира, когда придётся отвечать за всё. В том числе и за войну.
«Спичка»: Что должно случиться, чтобы началась мировая война?
Б. Ю.: Как я уже говорил, нам не грозит новая мировая война. Нам грозит затягивание и разрастание многочисленных (или региональных) конфликтов, поглощающих огромное количество человеческих жизней и ресурсов.
Нам не грозит новая мировая война. Нам грозит затягивание и разрастание многочисленных конфликтов.
Совокупные жертвы могут оказаться чудовищными. Они уже сейчас огромны. Но это не мировая война с двумя противостоящими глобальными лагерями. И более того, я очень надеюсь, что борющиеся стороны, сами поражённые глубочайшим внутренним кризисом, будут постепенно скатываться к миру. Бесконечно воевать невозможно, особенно когда в плане геополитическом у этих войн нет ни цели, ни смысла. Никто никого победить не может да и не хочет. Однако война ради продолжения войны — это тупик. Если сохранение власти требует бесконечного продолжения войны, слишком долго сохранять власть не удастся.
Увы, для многих сегодня мир гораздо страшнее войны. В перспективе мир — это революция. Ну или радикальные реформы.
Мы на пороге очень больших перемен. Старик Валлерстайн, думаю, был прав, когда предсказывал конец нынешней миросистемы (частью которой, между прочим, были и мировые войны).
Всего доброго,
Борис Кагарлицкий
04.10.2024
Второе письмо
Хочу продолжить тему принципиальных различий между ситуацией 1914 года и нынешним положением. Дело в том, что в начале XX века борьба между основными империалистическими державами велась за рынки третьих стран. Причём важную роль играл колониальный протекционизм, т. е. Германию и Италию просто не пускали на рынки Британской Империи, Французской колониальной империи и, кстати, США, где проводилась политика жёсткого протекционизма. Территориальный передел мира для Германии вставал в повестку дня из-за сугубо коммерческих проблем, тем более что стоял и вопрос доступа к дешёвым ресурсам в тех же колониях. При этом внутренний рынок Германии был крайне сильным, что делало страну готовой к войне в условиях коммерческой изоляции (хотя к 1917–18 годам именно надвигающаяся хозяйственная катастрофа вынудила Берлин фактически капитулировать).
В наше время основными рынками для Китая являются как раз США и Западная Европа, а претензии к ним со стороны Пекина состоят именно в том, что они не пускают китайский капитал на свои рынки. Причём, как отмечала ещё несколько лет назад Джайати Гош2Джаяти Гош (Джайати Гош, Jayati Ghosh) — профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте, США., Индия и Китай уже вынуждены косвенно субсидировать Запад, чтобы предотвратить сокращение спроса на свои товары. Слабость (относительная) внутреннего рынка Китая делает его объективно миролюбивым. Разумеется, внутренний рынок впечатляюще вырос за прошлые 20 лет, но для того, чтобы добиться на данном направлении развития качественного рывка, нужно менять не только социальную политику, но и социальную структуру. А переход к дорогой рабочей силе подрывает (в краткосрочной перспективе) экспортный потенциал. Китай всё ещё зависим от экспорта. И, несмотря на подорожание труда, остается страной со сравнительно дешёвой рабочей силой. На данном направлении, однако, проблемы Китаю создаёт не Запад, а Индия и отчасти Вьетнам. Напротив, в 1914 году столкновение шло между странами с дорогой рабочей силой, а капитал нуждался в новых рынках, чтобы компенсировать дороговизну труда.
Компартия Китая пытается объединить нацию против общего врага.
На повестке дня в Китае как раз внутренние изменения, социальные и политические. И да, стремление их отсрочить или избежать делает Китайскую партийную элиту агрессивной, ориентированной на поиск внешних врагов ради консолидации нации. В таких ситуациях часто пытаются устроить «маленькую победоносную войну», однако сейчас у Пекина подобной опции нет: конфликт в Корее или вокруг Тайваня автоматически перерастёт в большую войну, к которой Китай не готов, и элита осознает это. Остаётся ещё Вьетнам, но там пока нет повода да и в Пекине помнят унижение предыдущей войны.3Речь про китайско-вьетнамскую войну 1979 года. Тогда Китай напал на Вьетнам, а Вьетнам успешно отразил атаку. Это была первая война между соцстранами. Вьетнам — это Пруссия Восточной Азии или Израиль Дальнего Востока (так сами вьетнамцы говорили).
Наконец, есть фактор «Азиатского замедления». В 1970-е годы мы видим бурный рост Японии (читаем прогнозы о новой гегемонии в ХХІ веке), затем страна восходящего солнца начинает стагнировать. Спустя 20 лет то же повторяется в Южной Корее. С азиатскими тиграми та же история. Причина в том, что:
а) на определённом этапе исчерпывает себя первоначальная модель роста и её надо чем-то заменять;
в) меняется социально-демографический состав населения.
Отчасти стагнация позволяет смягчить внутренний кризис, давая время на перестройку системы.
Специфика Китая, однако, в том, что, с одной стороны, масштабы и инерция роста экономики беспрецедентны, а потому процесс затягивается и переход к новой фазе развития можно долго откладывать. А с другой стороны, диспропорции, дисбалансы и противоречия тоже накапливаются в таких масштабах, что вместо стагнации может наступить коллапс. Потому пекинское руководство, сознающее возникшую угрозу, заинтересовано поддерживать экономический рост буквально любой ценой. Рисковать потерей всех основных рынков оно не будет. Да и Запад, даже делая ставку на реиндустриализацию (на основе новых «зелёных» технологий), не может рисковать резким разрывом связей с Китаем (хотя до известной степени китайский экспорт могут заместить Вьетнам и Индия, тогда как Китаю западные рынки Россия заместить не может).
Напрашивается вывод: руководство Китая в силу внутриполитических причин заинтересовано в сохранении идеологической напряжённости с Западом, но ни в коем случае не собирается переступать черту, за которой начинается полномасштабный военный конфликт.
Руководство Китая хочет сохранить идеологическую напряжённость с Западом, но не доводить до войны.
И если уж вы хотите найти в истории аналогию нынешней ситуации, то это не 1914 год, а времена поздней холодной войны между СССР и США, когда стороны продолжали наращивать вооружения и даже сталкивались в локальных конфликтах, но одновременно развивали торговое сотрудничество между собой. Разница лишь в том, что Советскому Союзу с его государственной экономикой не нужно было сбывать товарные излишки в Западную Европу и США, а для Китая это жизненно важно.
В холодной войне, как мы знаем, тоже бывают победители и побеждённые, но это уже совсем другая история.
Всего доброго,
Борис Кагарлицкий
24.10.2024
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
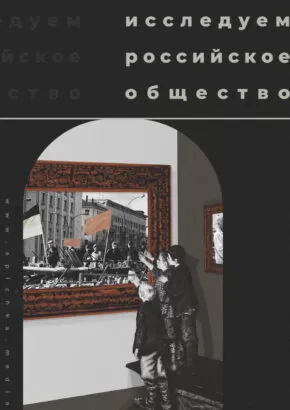 Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
 Преданная контрреволюция
Либералы разочаровались в олигархах? Рассуждаем о сериале «Предатели»
Преданная контрреволюция
Либералы разочаровались в олигархах? Рассуждаем о сериале «Предатели»
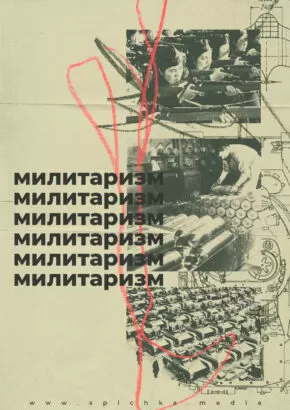 Адем Эльверен о милитаризме
Почему для государства танки и пушки важнее медицины и образования: перевели статью турецкого экономиста
Адем Эльверен о милитаризме
Почему для государства танки и пушки важнее медицины и образования: перевели статью турецкого экономиста
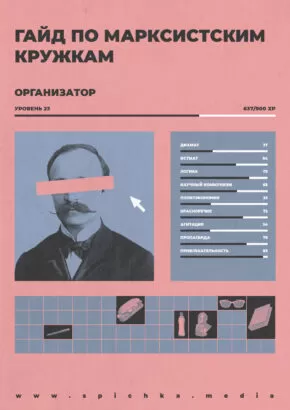 Гайд по марксистским кружкам
Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать
Гайд по марксистским кружкам
Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать