
Илья Матвеев: большое интервью с политологом о России, мире, Советском Союзе и социализме
- Рубрика: Настоящее, Политика
- Автор: Егор Живинин, Максим Левит, Данила Шалимов, Ариф Асадов, Андрей Смирнов, Илья Матвеев
Мы сталкиваемся с политикой каждый день: пенсионная реформа, повышение НДС, поправки в Конституцию. Она действует по своим законам и сильно влияет на наше общество. Чтобы побольше узнать о политике, мы взяли интервью у марксиста и левого социал-демократа Ильи Матвеева.
Илья Матвеев — кандидат политических наук, состоит в РСД и ест либертарианцев на завтрак.
Мы поговорили с ним про ленинскую теорию государства, кризис западной демократии и российскую политику.
Мы не во всём согласны с нашим гостем, но интервью получилось интересным.
spichka: Здравствуйте, Илья.
И. Матвеев: Здравствуйте.
spichka: Что вы имели в виду, когда в одном из своих интервью сказали, что, перейдя от теории к эмпирике, вы перешли в позитивизм? Значит ли это, что вы отказались от диалектического метода?
И. Матвеев: Я хочу сразу сделать предуведомление, что товарищи меня сюда позвали как страшного ревизиониста. Со многим из того, что я собираюсь сказать, они наверняка будут не согласны. Если вы, читатели сайта, тоже не согласны со мной, не отписывайтесь: дело не в сайте, а во мне. Мы просто проводим эксперимент. Чтобы стало понятно, какая теоретическая пропасть и какие проблемы заключаются в моём мировоззрении, сразу начну с первого вопроса про диалектический метод.
Что такое марксистская диалектика? Я не отрицаю, что она есть. С другой стороны, Лукач считал, что у Маркса одна диалектика, а Альтюссер считал, что у Маркса другая диалектика. Что такое «правильная марксистская диалектика»? Я думал над этим вопросом, и постепенно у меня сложилось понимание, как марксизм помогает позитивистской науке — политологии, — которой я занимаюсь.
Дело в том, что эмпирические, социальные науки ищут некие закономерности в нашем социальном мире: они выясняют, как одно явление связано с другим явлением. Часто они это делают в изоляции от всех остальных явлений. Как связаны, например, тип избирательной системы и состав парламента? Изучается конкретно эта связка, а все остальные вопросы выносятся за скобки, когда проводится исследование.
На что нам указывает марксизм? Марксизм указывает на то, что в обществе всё связано со всем. Нельзя выделить просто два явления в изоляции от всех остальных явлений и только их изучать.
Нам нужно стараться получить целостную картину. Многие марксисты называли это «тотальностью». Они утверждали, что общество, социально-экономическая формация — это тотальность.
Для меня это и есть марксистский диалектический метод. Я тоже предпочитаю смотреть на общество, как на тотальность, и стараться изучать не какие-то изолированные вещи и их связь между собой, а целостное развитие, например, российского общества и его политико-экономического порядка. На мой взгляд, в этом широком смысле я как раз марксист.
spichka: Для чего необходима политология современному марксисту?
И. Матвеев: Скажите, как у нас избираются депутаты в Государственную Думу? По какому принципу?
spichka: Конкретно это нам неизвестно.
И. Матвеев: На самом деле мы уже отрепетировали этот вопрос, и все присутствующие товарищи стали сомневаться. Какая избирательная система используется в нашей Государственной Думе? А ведь это политология. Это самое-самое начало политологии.
Между прочим, большевики тоже избирались в Государственную Думу, которая тогда существовала. Могли ли они в неё избираться, даже не зная, по какому принципу избираются депутаты в Государственную Думу? Как можно этого не знать?
Минутка просвещения: у нас используется смешанная система. Одна половина депутатов избирается по партийным спискам, другая — по одномандатным округам. Это политология, это надо знать. Если мы хотим понимать что-то о нашем обществе и о том, что марксисты называют «надстройкой», нужно иметь представление о таких вещах. Если мы говорим об избирательных системах, то надо знать, как тип избирательной системы влияет на политическую жизнь. Что означает избрание по партийным спискам? Что означает избрание по одномандатным округам? Какие там есть закономерности? К какой политической динамике это ведёт? Всё это и есть политология — она изучает закономерности в политической сфере жизни общества.
Маркс, например, занимался в каком-то смысле политологией достаточно много. У него есть политологический текст — «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Это один из моих самых любимых текстов Маркса, в котором он занимается тонким изучением французской политической динамики. Это не сведение всего к одному противоречию в области экономики, а попытка реконструировать сложную динамику. Как писал Маркс, государство становится автономным, политический режим становится автономным, разные классы участвуют в борьбе. Государство тоже участвует в этой борьбе, лавируя между классами. Так Маркс восстанавливал сложную, тонкую картину французской политической жизни.
Политология этим и занимается. Поэтому нужно её изучать. Начиная со знания азов, как устроено наше общество, наша политика, и заканчивая непосредственным участием в этой политике.
Марксисты должны участвовать в политике, а для этого они должны понимать, как она устроена.
spichka: Вы скорее говорите про эмпирическую политологию, а если говорить о теоретической политологии? Как она может помочь?
И. Матвеев: Я думаю, политическая теория как отдельная сфера политической науки даёт нам орудия критики, например критики идеологии. Мы видим, что идеология — важное явление. Достаточно ли только «Немецкой идеологии» Маркса, чтобы понимать идеологию? Я не уверен, потому что «Немецкая идеология» не самый сильный текст Маркса. Вот «Восемнадцатое брюмера» — сложный, местами очень неожиданный текст, а «Немецкая идеология» достаточно примитивна в своём подходе. Идеология — это просто некое отражение классовой борьбы или что-то ещё? Политическая теория как раз и даёт нам орудия идеологической критики.
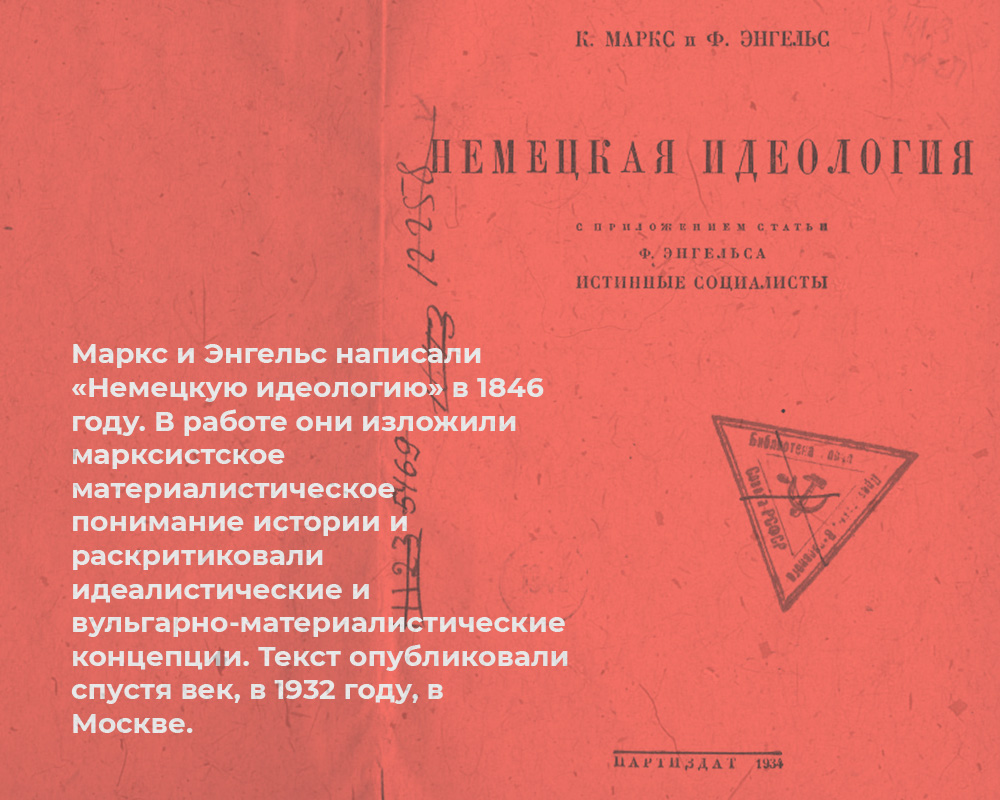
Когда мы смотрим телевизор, мы видим, что нам навязывают определённую картину мира. А как мы её анализируем? Только лишь сводя её к каким-то классовым интересам или всё-таки пытаясь анализировать само содержание этой идеологии?
На мой взгляд, роль политической теории как раз в том, чтобы анализировать идеологию.
С другой стороны, политическая теория — это очень широкая вещь. Есть политическая теория, к которой я крайне равнодушен, — аналитическая философия политики, которой занимаются американцы и англичане. Они исследуют этические вопросы: что хорошо, а что плохо? Что справедливо, а что несправедливо? Такие вопросы мне кажутся достаточно бесплодными. Если и есть отрасль науки, которая скорее воспроизводит существующий социальный порядок, так это как раз аналитическая философия, которая пытается вместо системных изменений задавать этические вопросы. А вот справедливо вести войну или несправедливо? Какие войны справедливые? Так, может, никакие, кроме классовых? Видите, я не совсем ревизионист.
Я не отрицаю существования этой дисциплины: просто она мне не очень нравится. На мой взгляд, марксисту необязательно заниматься аналитической, этической философией и этикой. Хотя есть и другие мнения. У меня есть приятель в Москве, который занимается философией справедливости в марксистском ключе. Он показывает, почему неравенство несправедливо, почему капитализм — это не свобода, как нам говорят либертарианцы — тоже своего рода политические философы, но слабые, — почему свободный рынок принуждает нас к чему-то. Он с помощью такой философии это доказывает. Это интересно, но мне кажется, что это периферийный сюжет.
spichka: Что вы думаете про ленинскую теорию государства? Актуальна ли она в современном мире? Как бы вы охарактеризовали социалистические государства, которые существовали раньше?
И. Матвеев: Подходим к опасным вопросам! Ленинская теория государства. Я здесь вижу некую проблему и некий вопрос. Я сам не до конца понимаю, как так получилось. Что нам говорил Ленин в «Государстве и революции»? Он нам говорил, что государство — это аппарат насилия и группы вооружённых людей. Государство — это инструмент в руках правящего класса. При социализме государства не будет: оно отомрёт, потому что без классового конфликта в нём нет нужды. Ленин был классическим марксистом в этом плане. Более того, диктатура пролетариата — это ведь тоже не диктатура государства. Согласно Ленину, это диктатура вооружённых отрядов пролетариата. Это само общество, скорее сам класс, который защищается от врагов революции.
Ленин написал эту книгу в 1917 году. Что дальше произошло? Подтвердились его выкладки, после того как произошла революция? Они не подтвердились, потому что государство уже в ранние годы Советской власти пережило мощнейшую централизацию.
Оно окрепло, усилилось и, возможно, стало сильнее, чем оно было при Российской империи. Некоторые историки называют самого Ленина строителем государства. Это парадокс. Если он считал, что при социализме государства не будет, то как получилось, что оно не просто сохранилось, но даже усилилось и стало таким огромным, мощным, влияющим на больше сфер жизни, чем раньше? Как получилось, что Ленин не подумал об этом? Как получилось, что он не подумал, что государство настолько усилится, когда писал этот текст?
Я, честно говоря, даже не знаю. Мои слова опасны, и после них все отпишутся, но теория государства — слепое пятно в работах Ленина, потому что он писал одно, а события доказали обратное.
Я не понимаю, как он это осмыслял. С другой стороны, если у кого-то есть ответ на этот вопрос, я с удовольствием готов его обсудить. Может, Ленин всё правильно понимал, а я неправильно интерпретирую его слова. Пока мне кажется, что «Государство и революция» — это почти анархистская книга. Она постулирует, что государство будет исчезать. Вместо того чтобы исчезать, оно при большевиках стало настоящим левиафаном.
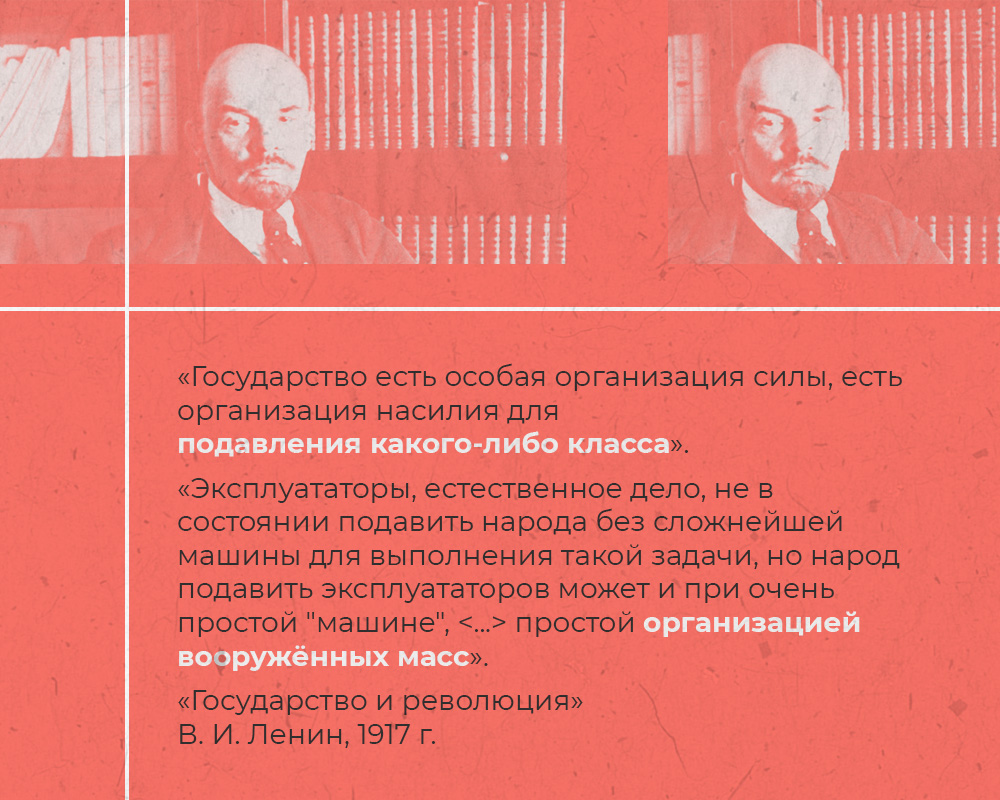
Ленин отслеживал эти тенденции. В 1920-е годы он говорил, что нужно усилить ЦК рабочими и преодолеть централизаторские тенденции, из-за которых партия начинает отрываться от класса. Он всё это понимал, чувствовал, но сделать, во-первых, ничего с этим не смог и, во-вторых, не предугадал это в своей теоретической рефлексии. Над этой болезненной вещью нам, социалистам, ещё надо подумать.
spichka: А если последующая практика большевиков не опровергла «Государство и революцию»? В том смысле, что практика большевиков была иной, отличной от той, которую они предполагали в «Государстве и революции»?
И. Матвеев: Ленин в «Государстве и революции» писал об одном, а произошло другое. Тогда вопрос: почему он заранее не подумал, что может произойти? Ведь вопросы о государстве, потенциальном отрыве партии от рабочих и насилии принципиальные. Почему Ленин подумал о ключевых вопросах в традиционном марксистском ключе, но практика пошла в другую сторону? Всё равно здесь есть какая-то проблема. Даже если мы скажем, что события пошли в другую сторону, почему Ленин не подумал, что они пойдут в эту сторону? Нужно найти ответ на этот вопрос.
spichka: Как бы вы охарактеризовали реальные социалистические государства?
И. Матвеев: Не буду говорить, как либерал, что все они просто ужас и нам нужно зажмуриться, забыть, декоммунизизировать. Это полная ерунда.
Советские государства и общества советского типа были сложными: в них были разные тенденции и очень много хорошего, — но я думаю, что это исторический тупик. К сожалению, этот эксперимент потерпел поражение. Возможно, как раз из-за теоретических слепых пятен, о которых мы говорили.
Очевидно, СССР был авторитарным государством, в котором демократии в любом смысле не было, в каком бы расширительном смысле мы бы ни думали. Возможности для рабочих влиять на ситуацию в СССР фактически не было. При этом были культ науки, культ прогресса, культ рациональности, декларируемый феминизм. Это, конечно, очень хорошо. Это те ценности, которые мы сейчас потеряли. Мы живём в государстве, которое хуже, чем Советский Союз.
При этом, на мой взгляд, это был исторический тупик. Да, была широкая социально-экономическая модернизация, но она была достигнута абсурдной ценой. В итоге было непонятно, куда и как могло развиваться советское общество.
spichka: Ваша позиция заключается в том, что социалистическое государство должно быть демократичным?
И. Матвеев: Да, я считаю, что в том или ином виде демократия должна существовать в социалистических государствах.
По-моему, у нас будет вопрос про это, но я скажу заранее. Возьмём однопартийную диктатуру. Мы знаем, что большевики неспециально построили диктатуру партии. У них не было такой цели.
Мы знаем, что в первые годы революции они были готовы сотрудничать с другими партиями, но эти партии, прежде всего левые эсеры, не шли на сотрудничество с большевиками. Это был скорее продукт обстоятельств, чем какое-то целенаправленное выстраивание авторитаризма в духе либеральных штампов «Ленин всегда хотел построить ГУЛАГ».
Как говорят либералы, всё началось с работы Ленина «Что делать?» про профессиональных революционеров — от неё они ведут прямую связку к революции, которую и осуществили эти профессиональные революционеры, а потом от революции — связку к сталинизму и власти номенклатуры. Всё это неразрывная цепь. Я просто не верю в эту ерунду. Конечно, это было не так.
Ленин экспериментировал, пробовал разные вещи и не отрицал демократию. Внутрипартийная демократия в 1920-е годы ещё сохранялась. В итоге мы видим, что это всё переродилось в полное отсутствии демократии в любом смысле. Мне кажется, общество без демократии в любом случае обладает каким-то внутренним изъяном.
spichka: Каким вы видите преодоление советского опыта построения социализма? Возможно, вы можете назвать ярких деятелей, которые пытались успешно или неуспешно анализировать этот опыт?
И. Матвеев: Мне трудно сказать, честно говоря. Отдельные вещи в социалистической Югославии были более прогрессивные, чем в Советском Союзе, скажем рабочее самоуправление. Заслуживают внимания отдельные вещи в капиталистических государствах с очень сильной социал-демократией, как в Швеции в 1960-70-е годы.
Чтобы всем уже окончательно стало понятно, на каких ужасных позициях я стою: я не отрицаю даже буржуазную демократию. Мне кажется, левые должны участвовать в политике и бороться за власть, в том числе парламентским способом. Я левый социал-демократ, или демократический социалист.
Мы знаем, что есть современные латиноамериканские страны, в которых красная волна1«Красная волна» — период с 1998 по 2009 гг., когда к власти в 14 странах Латинской Америки пришли политические силы «левого» спектра. привела к власти достаточно радикальных политиков. Они сражались и в парламентах, и на избирательных участках, и на улице с реакционерами, зажиточным средним классом и буржуазией своих стран. С другой стороны, мы знаем, что в Швеции в 1970-е годы была мощная попытка отменить капитализм просто демократическим путём — она называлась «план Мейднера». Идея заключалась в том, что создаются специальные фонды, которые контролируются профсоюзами и обществом. Они постепенно выкупают всю крупную частную собственность. Таким образом вся собственность в Швеции социализируется. Эта реформа провалилась из-за целенаправленного сопротивления правящего класса, что говорит о том, что этот опыт для нас далеко не путеводная звезда. Условия были настолько идеальные, что их вряд ли можно повторить: мощнейшая социал-демократия, огромный слой рабочих, мощнейшие профсоюзы, в которых состоят 80 % работников. Всё равно не получилось прийти к социализму демократически.
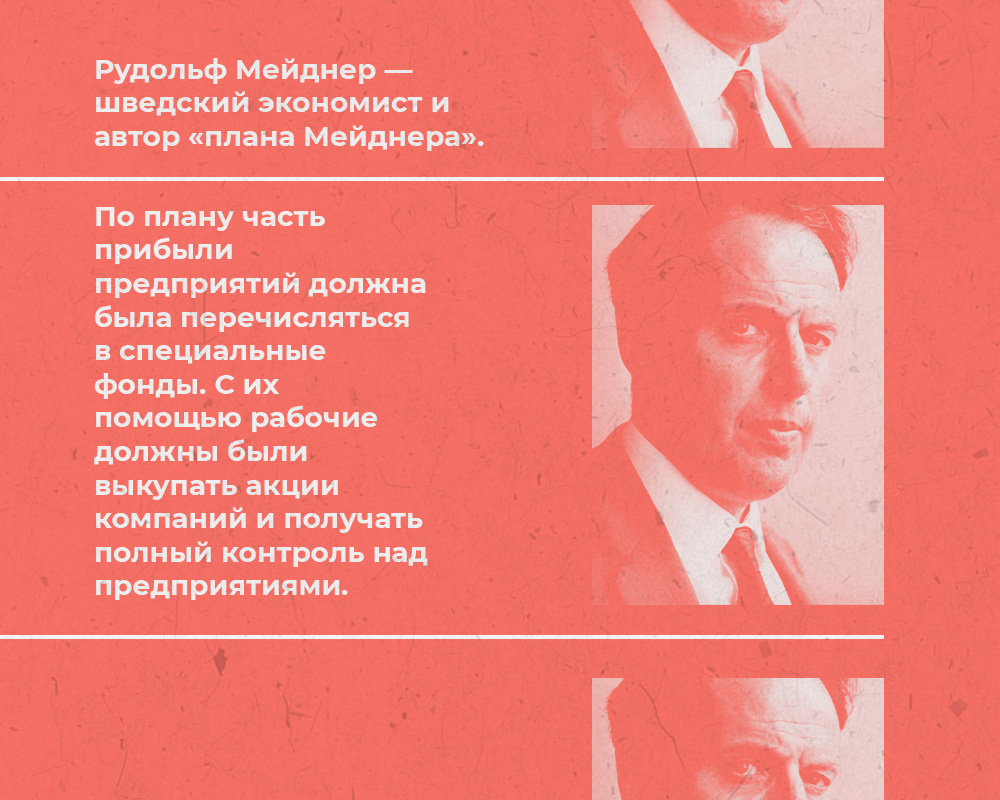
Тем не менее где-то здесь я вижу потенциал настоящей социалистической трансформации общества. В отличие от социал-демократов, я не верю, что капитализм в принципе жизнеспособен. Я не считаю, что нужно сосуществовать с капитализмом, как-то его приручать, проводить социальные реформы и вечно жить в социальном капитализме.
Мне кажется, капитализм изначально противоречив и обречён. При этом я не верю, что сегодня ленинистский захват власти — правильная стратегия.
spichka: Перейдём к актуальным вопросам. Год назад вы делали доклад на тему «Либеральная демократия как историческая случайность» и подробно рассматривали политическую систему США. В настоящий момент мы наблюдаем определённый кризис доверия населения к американской системе. С чем это связано и чем обусловлено такое жёсткое деление на город и деревню в Штатах?
И. Матвеев: Это объёмный вопрос, который касается не только Америки, но и западных политических систем. Сейчас мы снова увидим, зачем марксисту политология.
Что происходит с западными демократиями? Тома Пикетти, автор «Капитала в XXI веке», написал интересную работу про электоральные тенденции. Он показал, что раньше, в рамках парламентской политики, бедные голосовали за левых и социал-демократов, а богатые и средний класс — за правых, консерваторов, республиканцев. Постепенно произошла трансформация западных политических систем. Социал-демократические партии не просто ушли вправо и стали центристскими партиями, а стали опираться на образованные городские слои и специалистов. Они перестали рассчитывать на то, что рабочие будут за них голосовать. Они решили, что перспективнее двигаться в сторону центра, а повестка, которая интересна рабочим, — это не главное. Главное — умеренная линия на социальный прогрессизм, в том числе и пресловутая политика идентичности, которая нравится образованным городским слоям.
В итоге получилась парадоксальная ситуация: как показывает Пикетти, социал-демократические партии стали партиями образованной городской элиты, а правые партии стали партиями богатых, независимо от их образования.
Что происходит дальше? Остаются бедные люди без высшего образования. Они не представлены в политической системе. Отсюда идёт кризис представительства: ни та, ни другая партия не обращаются к беднякам, и они чувствуют, что никому не нужны. При этом они в наибольшей степени страдают от глобализации, которая отнимает их рабочие места и переносит производства в азиатские страны. Они больше всего страдают от глобализации, в отличие от городских образованных слоёв, которые, наоборот, от неё выигрывают. У бедных людей всё плохо, они хотят, чтобы их кто-то представил в политической системе. У них накопилось очень много недовольства.
Что тогда происходит? Вместо того чтобы левые партии задумались о том, что пора вернуться к корням и опять обратиться к рабочим, что рабочие — это их органическая социальная база, — вместо этого правые партии начинают обращаться к рабочим, например Трамп. Он прямо говорил: «Американский рабочий класс, голосуй за меня!» Что он ему предлагал? Он говорил, что не пустит мигрантов, что из Мексики в США едут одни насильники, что «ваш главный враг — это такие же люди, как вы, просто живущие других странах, например в Китае, в котором все очень плохие». «В Америке, — говорил он, — наши враги — истеблишмент». А что такое истеблишмент? Истеблишмент — бессмысленное слово. Он не говорил: «Рабочие, ваш враг — капиталист». Он сам капиталист. Он говорил, что в Вашингтоне сидит некий «демократический истеблишмент» и «я тебе помогу с ним бороться; мы с тобой будем бороться с вашингтонской коррупцией». То же самое происходит в Англии с Борисом Джонсоном.
Правые учатся завоёвывать голоса бедных людей без высшего образования. Отсюда рост их популярности и стратегическое поражение левых. Западные левые партии не понимают, что опираться только на образованных профессионалов из крупных городов — это тупик. Если они не расширят свой электорат, то будут всё больше погружаться в политическое небытие. А правые — расти дальше, и всё у них будет отлично, потому что они продолжат делить рабочий класс по национальному признаку и впаривать ему свои национализм, расизм, ксенофобию. Их стратегия успешна, так как левые социал-демократические партии на Западе отказались от своих корней. Вот откуда кризис представительства.
Что касается разделения на город и деревню — тут скорее речь, с одной стороны, о крупных городах, а с другой стороны, о промышленных городах меньшего размера и сельской местности. Глобализация захватывает в свои финансовые и миграционные потоки определённые места, и в крупных городах становится действительно лучше жить при глобализированном капитализме. Вы из Москвы приехали? В Москве объективно лучше жить, чем в Петербурге. А если сравнивать с остальной Россией? Не город и деревня, а Москва и Россия.
В Америке это тоже очень ярко проявляется. Отличие от России в том, что там больше крупных городов: одно побережье — Нью-Йорк, а другое побережье — Лос-Анджелес. Там глобализация создаёт преимущества именно для крупных городов. Глобализация обходит стороной американский «хартленд». У американцев забирают рабочие места и при этом они ничего не получают от глобализированного капитализма. Отсюда политический раскол.
Он постепенно становится ключевым расколом в западных обществах. Главная проблема в том, что это не классовый раскол, потому что людей, пострадавших от глобализации, представляют правые. Мы видим на самом деле «неправильную» борьбу. Вместо борьбы условно правых и левых, социалистов и консерваторов мы видим борьбу правых популистов и леволибералов. Они обращаются к рабочим — традиционному электорату левых — и борются с леволибералами и центристским социал-демократами, которые оторваны от рабочих и говорят: «Хиллари Клинтон — наш самый лучший кандидат, как и Джо Байден. А вообще: America is already great. Ничего, в принципе, менять не нужно, потому что всё и так хорошо».
Эти леволиберальные партии парадоксальным образом становятся консервативными. Они защищают статус-кво, ведь «America is already great». Правые популисты становятся революционерами, потому что они говорят: «Let’s make America great again».
Это чудовищно. На самом деле, это неправильная ситуация, и всё должно быть по-другому. Встаёт вопрос: когда это, наконец, изменится и станет нормальным? Когда левые снова станут за бедных и отнимут их у правых, которые окучивают бедных националистическими лозунгами?
spichka: Как кризис в Америке может повлиять на другие государства?
И. Матвеев: Понятно, что Америка — центральная страна, которая разными способами задаёт повестку всему миру. Например, она всё послевоенное время в глобальных масштабах защищала свободную торговлю. Причём делала она это в основном в интересах своего правящего класса. А потом пришёл Трамп и сказал: «Всё, свободная торговля отменяется: нам это больше не выгодно. Давайте вести торговые войны и вводить тарифы, потому что Китай торгует с нами несправедливо и свободная торговля уже невыгодна для США». Конечно, это очень мощно влияет на весь мир.
Традиционно Америка была всеобщим гарантом свободных рынков, а другие страны, наоборот, — теми, кого ещё нужно заставить примкнуть к свободной торговле. Собственно, такие институты, как ВТО, были институтами с американским влиянием. Сейчас, наоборот, Китай начинает выступать за свободную торговлю, а Америка пятится от неё и пытается ввести ограничения. Это очень мощно влияет на мировую экономическую повестку.
Америка в мировом масштабе была гегемоном и гарантом капиталистического порядка. Пришёл Трамп и сказал: «America First. Мы больше не будем вкладывать в НАТО, заставим немцев и вообще европейцев платить за НАТО самостоятельно. Мы не будем вкладывать в международные институты. Нам нужно закрыться внутри своей страны и подумать о себе». Это огромные последствия для мира и устройства мирового капитализма, который нуждается в гегемоне. Сначала гегемоном была Англия, теперь — Америка. Америка от этих функций, по крайней мере при Трампе, начала отказываться. Не знаю, как будет при Байдене, но очевидно, что это какая-то структурная вещь и Трамп был таким неслучайно.
spichka: Какие вы видите перспективы мирового рынка в связи с этим? Возможны ли тенденции к изменению?
И. Матвеев: Глобализация споткнулась. Она идёт на спад. Объём мировой торговли снижается последние несколько лет. Мне кажется, мы вступаем в период торговых войн, региональных торговых блоков и, возможно, более классического империализма, в котором эти торговые блоки будут также и военными блоками. Это довольно страшно, потому что мы знаем, чем закончился первый период империализма. Тем не менее Америка уже не может играть роль гаранта «всеобщего мира» и глобального режима свободной торговли.
Мы вступаем в период империализма региональных блоков и борьбы между ними за рынки сырья и сбыта.
Здесь Ленин, кстати, вполне пригодится. Я думаю, его теория империализма лучше, чем его теория государства. Хотя она и не целиком его. Должен же я был ещё раз плохо сказать про Ленина.
spichka: Если затронуть российские события, как изменение Конституции и обнуление президента характеризуют институты РФ и тенденции российской политической системы?
И. Матвеев: Честно признаюсь: я не ожидал, что всё произойдёт именно так. Даже когда в январе этого [2020] года наш президент объявил об изменениях Конституции, я, как и большинство наблюдателей, думал, что он пойдёт не этим путём. Тогда обсуждали «Казахский сценарий». Говорили, что Путин отдаст должность президента другому и займёт пост вечного главы Совета безопасности или Государственного совета. Мне казалось, раз в 2008 году Путин решил соблюдать Конституцию и отдать власть Медведеву, наверное, сейчас произойдёт что-то похожее, другое по форме, но в таком же ключе.
Потом президент всех нас удивил и в лице Терешковой потребовал продлить свои сроки ещё на 12 лет. Это открыло новую страницу в нашей политической истории и сделало наш режим другим — с тех пор он стал более жёстким.
spichka: В лекции про дефолт 1998 года вы указали на возможное противоречие в российском капитализме после событий 2014 года. Что вы думаете про это сейчас?
И. Матвеев: Наш капитализм, каким он сформировался в конце XX и начале XXI века, — это глобализированный капитализм, встроенный в мировую экономику. Наши олигархи и крупный бизнес мощнейшим образом зависят от мировых рынков, особенно от рынков капитала. Рост «нулевых» годов основывался на крупных заимствованиях на мировых рынках капитала и быстром росте корпоративного внешнего долга. Наши компании выходили на IPO в Лондоне и других мировых биржах, а олигархи пытались стать частью мировой капиталистической элиты. Они покупали особняки в Лондоне не только для того, чтобы припарковать лишние деньги, но и для того, чтобы получить легитимность в глазах их заграничных друзей по Давосскому форуму. Чтобы никто не смог отличить американского или английского олигарха от русского: они одинаково выглядят, их компании размещаются на одних биржах, у них похожие бытовые привычки. Они так же обожают современное искусство и любят вкладывать в него деньги. Это был целый проект: стать не просто частью Запада, а частью западного, а потом и глобального правящего класса.
2014 год смешал им все карты. У нас объявляется национализация элит. Причём она скорее вынужденная, потому что одних крупных бизнесменов и олигархов санкции бьют напрямую — их просто называют в санкционных списках, — а другие переживают, вдруг их тоже назовут, они пострадают, и у них всё отнимут. Самое главное — даже тем, кого не назвали в списках, практически перекрыли доступ к западному капиталу, заимствованиям, что было принципиально для их модели бизнеса.
Если открыть статистику нашего Центрального банка, мы увидим, что доля корпоративного долга продолжает снижаться с 2014 года. Нашим пришлось перестроить свой бизнес, и это очень мощно ударило по их интересам.
Я не скажу ничего оригинального, если предположу, что в нашем правящем классе нарастает напряжение. Одна часть настроена на мощную конфронтацию с Западом, а другая часть устала от этой конфронтации. Она, конечно, к ней приспосабливается, потому что ей некуда деться, — приспосабливается, но устаёт.
Как это напряжение будет развиваться? Трудно сказать. Понятно, что вся российская политэкономия построена на защите, поддержке крупного бизнеса и заботе о нём — вопреки словам либералов, будто наш бизнес плохо себя чувствует. Может, мелкий бизнес сводит концы с концами, но крупный себя чувствует отлично. Всем санкционным олигархам выданы госзаказы, подряды, их субсидировали, спасали разными способами, чтобы снять напряжение внутри правящего класса. Сколько это может продолжаться? Если учесть, что с экономикой большие проблемы: коронавирус мощнейшим образом ударил по ней и по резервам, и цена на нефть резко упала — сколько может продолжаться покупка лояльности олигархов? Не знаю. Я думаю, что это станет мощным противоречием в последующие годы.
spichka: Существуют ли сейчас противоречия между топ-менеджерами госкомпаний и частными предпринимателями?
И. Матвеев: Я думаю, что это тоже сводится к противоречию между олигархами, под которыми я, кстати, не подразумеваю, как это делает Навальный, менеджеров госкорпораций. Он говорит: «Сечин — это олигарх». Мне кажется, это странно. Олигархом можно назвать кого угодно, но я под ним понимаю частного собственника, который владеет крупным частным бизнесом.
Противоречия есть, потому что менеджеры госкорпораций в приоритетном порядке рассчитывают на господдержку. У них более выгодные условия. Частный бизнес больше ориентируется на западные источники денег. Отсюда рождается объективное противоречие между ними: госкорпорациям проще существовать в новой реальности конфронтации с Западом. Они ещё могут оседлать импортозамещение: «У нас теперь всё будет своё, потому что с Западном мы больше не торгуем». Крупному частному бизнесу в этом вопросе намного труднее. Он тоже, конечно, пытается. Агробизнес, например, получил преимущество после контрсанкций. Всё равно остаётся противоречие, которое заключается в том, что существуют разные источники денег, а отсюда — объективная разность интересов.
spichka: Соответствует ли действительности выделение силовиков и противопоставление их олигархам? Довольно известный историк Фельштинский написал ряд книг, например «ФСБ взрывает Россию», как силовики захватывают контроль над государством. Возможны ли его теория и подобное противопоставление?
И. Матвеев: Фельштинского и его опасные книги мы не будем обсуждать. Силовики — это реальные люди с бэкграундом в силовых ведомствах — в КГБ или Советской армии. Исследования показывают, что количество этих людей в нашей власти выросло в 2000-е годы. Произошло это неслучайно, потому что сам Путин — силовик. У него есть много друзей силовиков, и он предпочитает опираться на них. Он привёл группы силовиков к управлению страной.
Возьмём пресловутых менеджеров госкорпораций — что это за люди? На самых важных позициях госкорпораций стоят силовики. Сергей Чемезов — он откуда? Из КГБ. Он там не один такой. Противоречия есть: когда у силовиков появились экономические запросы, олигархам пришлось подвинуться. С другой стороны, в 2000-е годы был экономический рост и всем хватало места, кроме тех, кто уже совсем выходил за рамки, Ходорковский например — его пришлось отодвинуть. Всё же случались конфликты из-за собственности между силовиками, которые стали менеджерами госкорпораций, и крупными бизнесменами.
У них действительно разные интересы, потому что силовики ориентированы на госсектор, а олигархи — на частный капитал. У них разные позиции в экономической системе, а отсюда — разные стратегии.
spichka: Для нас возможен китайский сценарий, когда силовики, приобретая капитал, входят в частный сектор и эти две сферы — государственная и частная — сращиваются?
И. Матвеев: У нас они обычно делают по-другому. Силовикам нравится оставаться в госсекторе. Они даже предпочитают детей своих устраивать на государственные должности. Чтобы силовики совсем уходили в частный бизнес, я не припомню такого примера.
Во-первых, я думаю, что это нарушение договора с Путиным. Он явно не хочет, чтобы они так делали, потому что он на них рассчитывает и им доверяет — особенно тем, кто принадлежит к его близкому кругу. Во-вторых, зачем им частный сектор, если государство очень комфортное: оно всегда прикроет, даст субсидию, когда вы всё потратили и у вас не хватает денег? Я даже не припомню примера в России, чтобы силовик-госменеджер ушёл в частный бизнес.
У них часто бывают альянсы, когда, например, крупные олигархи сидят в совете директоров госкорпораций. Несколько раз это осуществляли для того, чтобы обеспечить связь между этими частями капитала. Конечно, эти части экономики связаны: учитывая, что это крупные предприятия, между ними и так много хозяйственных связей. При этом силовики предпочитают оставаться в госсекторе.
spichka: Как повлияла внешнеполитическая обстановка на становление политических режимов в СССР и других соцстранах?
И. Матвеев: Этот дополнительный вопрос мы сейчас придумали в перерыве, чтобы сильней усложнить мне жизнь. Вопрос о чём? Вопрос о том, возможно ли было построение какого-то демократического социалистического государства во враждебном окружении? Никто не планировал вечно находиться во враждебном окружении. Все планировали мировую революцию. Большевики в начале 1920-х годов продолжали верить в неё, и, возможно, именно с этим связано слепое пятно о роли государства и насилия в раннем Советском Союзе. Оно связано с идеей «мы сейчас строим сильное авторитарное государство, но это временно, потому что будет мировая революция и все эти противоречия будут сняты». Надежда на мировую революцию не оправдалась.
При Сталине гармония между внешним окружением и стремлением построить авторитарный социализм в одной отдельно взятой стране достигла своего пика.
При Сталине такого вопроса просто не было: «Да, мы строим социализм очень жёсткий, основанный на насилии. Мы воспринимаем враждебное внешнее окружение как вечный факт жизни и подразумеваем, что у нас рано или поздно будет с ним война».
Сначала была надежда, а потом она пропала. Я так думаю. При Сталине авторитарные тенденции были совершенно осознанными. Сталин отлично понимал, что он делает, в отличие от Ленина. Я не думаю, что у него были какие-то слепые пятна. Он верил не в «Государство и революцию», а в централизацию власти как главный способ захвата и удержания этой власти.
spichka: По вашему мнению, возможно ли было социалистическое развитие Швеции по пути диктатуры пролетариата?
И. Матвеев: Ещё один сложный вопрос — да ещё с какой формулировкой: «В Швеции… по пути диктатуры пролетариата». Швеция — страна с самым сильным рабочим движением в Европе. Это демократия с мощными профсоюзами и социал-демократической партией, которая находилась у власти 70 лет. Да, с небольшими перерывами, иногда в составе коалиции с другими партиями, но тем не менее у власти была. В Швеции проект по мирному врастанию в социализм всё равно потерпел поражение из-за сопротивления правящего класса — оно там никуда не делось.
Отсюда вытекает вопрос: какие были сценарии? Я думаю, что сама социал-демократическая партия, в отличие от профсоюзов, не хотела последовательно бороться за этот план. В этом и заключалась проблема. В итоге реформу приняли, фонды создали, но они контролировали всего около 4-5 % экономики. Надежда на них не оправдалась. Они существовали, но вобрать в себя всю крупную частную собственность не смогли: сопротивление правящего класса сознательно ослабляло реформу.
Ещё один важный момент заключается в том, что у капиталистов всегда есть мощнейший рычаг против любой рабочей власти при любом политическом строе. Этот рычаг — бегство капитала, или так называемая «забастовка капитала», когда капиталисты перестают инвестировать, чем вызывают мощнейший экономический кризис. Население во всём винит левую, социалистическую власть. Хотя дело не во власти, а в буржуазии, которая сопротивляется этой власти. Отчасти это произошло в Венесуэле, где был абсолютный саботаж со стороны местных капиталистов. Это выглядело как тотальный провал политики Чавеса. Однако это был не провал действий Чавеса, а целенаправленное сопротивление его политике.
Что делать в такой ситуации? Необходима форма контроля над движением капитала на этом этапе, чтобы приостановить «бегство» денег из страны. Как бороться с забастовкой капитала? Если уровень социальных противоречий действительно высокий, то не исключены авторитарные меры. Когда зайдёт речь о национализации под давлением этих обстоятельств, произойдёт то, что было в Венесуэле.
В Венесуэле, которая не принадлежит к ядру мировой экономики, всё равно сохранилась демократия при Чавесе. Венесуэла была демократической страной, что бы нам ни говорили буржуазные политологи. Её выборы были честными: на них честно побеждал Чавес, честно побеждал Мадуро, а потом они так же честно проиграли оппозиции парламентское большинство. В Венесуэле сохранились институты демократии, но при этом с мощным, прежде всего уличным, движением в поддержку реформ. Это важнее, чем «диктатура пролетариата» и авторитарные меры. Все должны быть на улицах, все должны отстаивать прогрессивные социалистические преобразования в этой ситуации — тогда, возможно, что-то получится.
Где Швеция 1970-х годов, а где мы? Швеция уже давно не такая, как прежде. В ней провели неолиберальные реформы, частично демонтировали социальное государство, а социал-демократическая партия на много лет потеряла власть. После мирового правого переворота, который произошёл в 1980-е годы, после Тэтчер, Рейгана и последующих трудно представить ситуацию, что в развитых демократиях последовательно двигаются к социализму. Упрямо встаёт вопрос: как идти к социализму, сохраняя демократические институты?
Правый поворот заканчивается. Неолиберальная программа в глубочайшем кризисе.
Появляются последовательные левые политики вроде Джереми Корбина и Берни Сандерса. Да, пока у них не получается выигрывать, но это не значит, что и в будущем их ждут только поражения. Вполне возможно, мы вернёмся к глобальному режиму, который более благоприятен для труда и менее благоприятен для капитала. Произойдёт ситуация 1970-х — мы приблизимся к ней на новом витке. Тогда можно будет говорить о дальнейшем прогрессе. Контроль за движением капитала, мощная уличная борьба, участие партий, профсоюзов, социальных движений помогут продвинуться к социализму изнутри демократических институтов. Я не исключаю, что это возможно. В 1930-е годы тоже было трудно представить, что нечто подобное будет возможно в Швеции 1970-х годов. Однако это стало возможным.
spichka: В ходе нашего исследования мы обнаружили, что в Беларуси в 1998 году, так же как и в России, правительство централизовывало аппарат власти в своих руках, формировало президентскую республику и увеличивало роль государства в экономике. Как вы считаете, является ли это закономерностью для постсоветских стран?
И. Матвеев: Мы начали это обсуждать, до того как стали записывать это интервью. Честно говоря, я не уверен, что роль государства в экономике Беларуси выросла именно в 1998 году. Там была приватизация, но она была гораздо меньше, чем в России и Украине. Лукашенко сохранил контроль над дееспособным госаппаратом и экономикой, которая не переживала такого падения, как в России или Украине. Централизация власти произошла при Лукашенко ещё в середине 1990-х годов.
В Беларуси не было сценария, что сначала всё приватизировали, а потом заново национализировали. Так можно сказать о России: в 1990-е у нас проходила приватизация, а в 2000-х — частичный откат. Это произошло в «нефтянке» — в Газпроме, контрольный пакет которого снова принадлежит государству, — в разных оборонных предприятиях, которые собрал Ростех, — много примеров. У нас действительно была приватизация, а потом — национализация. В Беларуси была скорее очень сокращённая приватизация. Лукашенко стал авторитарным лидером ещё в середине 1990-х годов.
Есть более широкие тенденции для постсоветских стран — это или авторитарная централизация, или борьба олигархов, или олигархическая демократия. Иногда эти тенденции сменяют друг друга, как в Украине.
В некоторых странах это просто долговременная централизация. Беларусь — яркий пример. С середины 1990-х годов Лукашенко удивительно удерживает контроль над госаппаратом своей страны. Ни один омоновец не дрогнул в ходе недавних событий. Я не знаю, насколько вы следите за ситуацией в Беларуси. Иногда сообщают об очень редких силовиках, которые говорят, что они увольняются. В основном это ветераны, например те, кто служил в армии. Вот они свою форму выкидывали, но это были считанные примеры. Такие ветераны сейчас не служат: они давно отслужили. У Лукашенко по-прежнему полный контроль над текущими силовым и госаппаратом.
Это само по себе удивительно. Как ему удалось построить настолько жёсткую систему, что никто даже не думает трепетать перед народом, который выходит на улицу? А народ выходит в огромных количествах. Он выходит в тех количествах, в которых у нас выходили на улицу в 2011-12 годах. В Беларуси населения заметно меньше, чем в России. В масштабах страны это гигантские демонстрации. Тем не менее мы видим полный контроль над госаппаратом. Это очень интересный исследовательский вопрос для политологии, которая, как мы выяснили, нужна марксисту. Как Беларуси удалось построить такой эффективный авторитарный режим? Интересно подумать над этим.
spichka: В условиях коронавируса в РФ актуализировался цифровой контроль за населением и экономикой — это не только камеры, но и контроль онлайн-переводов и тотальная чипизация товаров. Как это связано с проблемами либеральной демократии? Насколько реальны экзотические теории вроде нейролиберализма и цифрового ГУЛАГа?
И. Матвеев: Это, конечно, большой и сложный вопрос. Мы видим, что социальные сети сегодня сильно влияют на людей. Они стали изощрённейшим способом рекламы и моделирования человеческого поведения. Если человеку всё время показывать какой-то магазин, то его постепенно можно подвигнуть к тому, чтобы он купил что-нибудь в этом магазине. Это большие данные, которые стали сверхэффективно использоваться, для того чтобы «взламывать» психологию человека.
Социальные сети стали взламывать политические взгляды человека. Пока это ещё мало развито, но уже есть примеры. Специальные политические кампании сверхточно направляются на конкретных людей, которым необходим именно этот ролик, чтобы они окончательно уверовали, например, в Трампа. Это сейчас существует.
С другой стороны, мы видим, что цифровой ГУЛАГ не слишком большое преувеличение. То, что делают в Китае, — это действительно тотальный контроль и система социального кредита для подавления любого инакомыслия и свободы личности. Понятно, они тоже допускают ошибки, но с уйгурами, конечно, они это мощно внедрили.
Это очень пугает. В либеральных демократиях социальные сети одновременно разгоняют цифровой капитализм — с помощью рекламы и контроля потребительского поведения — и разлагают изнутри сами либеральные демократии. Они выхолащивают настоящий политический выбор и манипулируют им. А с другой стороны, в авторитарных странах цифровые технологии полномасштабно ставятся на службу всеобщему контролю над населением. Это абсолютно реальные тенденции — они точно не обошли нашу страну, особенно они заметны в Москве. Мы тут, в Петербурге и других городах, не такие продвинутые, а в Москве это активно внедряют. Идея с распознаванием лиц, слежку поставят на поток, за каждым из нас будет легко следить — это всё очень сильно пугает. У вас есть ещё вопрос про левый акселерационизм. Давайте хиты!
spichka: Да, не является ли происходящее в мире крушением идей левого акселерационизма?
И. Матвеев: «Левый акселерационизм» — что это такое? Давайте скажем пару слов. На самом деле идея очень простая. Просто авторы этих концепций, к сожалению, стали использовать дурацкое слово. Мы теперь тоже вынуждены его использовать. Идея элементарная — технический прогресс служит продвижению левой повестки. Вот и всё, что здесь имеют в виду. Левые должны приветствовать технический прогресс. Они должны не бояться, что всех работников заменят роботами, а, наоборот, приветствовать, что труд будет замещён роботизацией. Тогда у людей появится простор для самореализации. Кроме того, они начнут обращаться к другому труду, который нельзя заменить роботами, например ко всему, что касается заботы о пожилых и больных. Людей, которые заботятся о них, всегда не хватает: им мало платят. Мы можем представить себе ситуацию, когда чёрную работу будут делать роботы, а люди будут всё время учить друг друга и заботиться друг о друге.
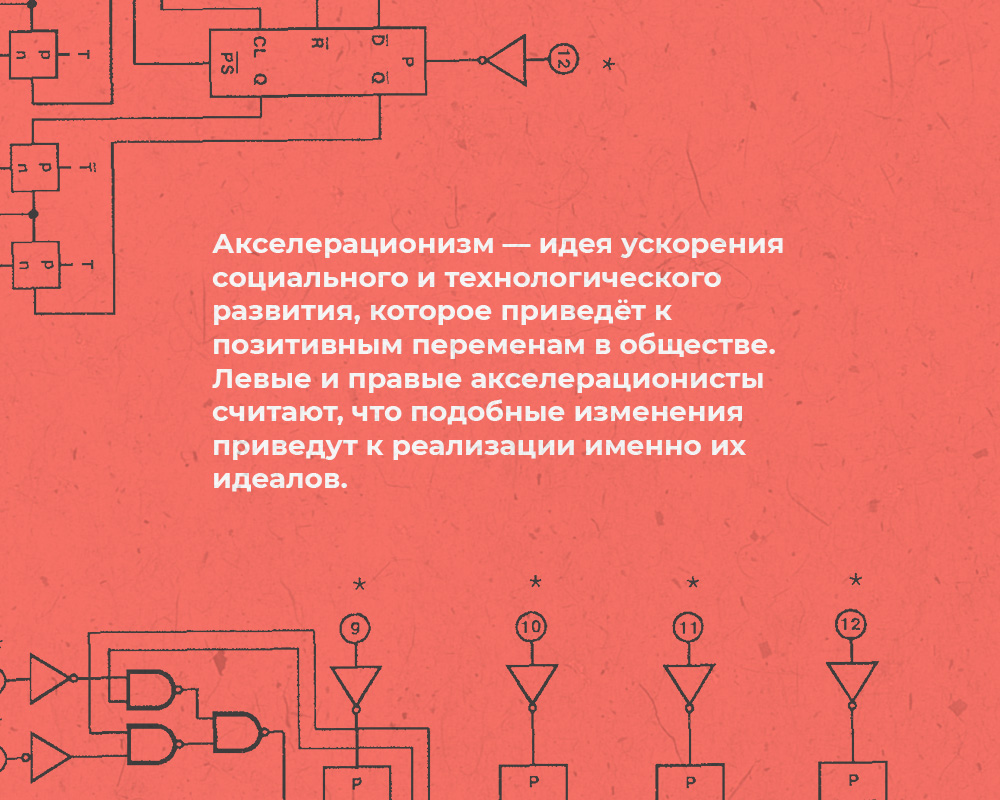
Мне кажется, что-то в этих идеях есть. Однако странно, что развитие технологий как будто подменяет сами социальные изменения; как будто мы можем, вместо того чтобы бороться за социализм, просто положиться на то, что роботы нам его сами построят. Ничего они не построят: все роботы будут в частной собственности, даже если люди будут сидеть на базовом доходе, — это слепое пятно левых акселерационистов. Они считают, что это классная идея, а на самом деле будет просто огромная армия безработных, которые не понимают, зачем они нужны обществу, у которых нет ни перспектив, ни какого-то чувства востребованности, которым просто выплачивают очень маленькие деньги для того, чтобы они там жили как-то. Базовый доход не очень хорошая идея — я так всегда считал.
Конечно, у левых всегда был такой техно-оптимизм, что производительность труда будет расти, а рабочий день — уменьшаться.
Скорее, может быть, ключевым требованием должен стать не базовый доход, а сокращение рабочего дня, которое освободит время для творчества и самореализации. Всё это не лишено оснований даже сейчас. Да, действительно, технический прогресс может всем нам помочь, потому что мы будем меньше работать и больше заниматься творчеством и политической борьбой. В этом плане эти идеи оправданы.
spichka: Есть ли перспективы для левой и вообще любой массовой политики в условиях власти крупного олигархата, цифровизации и контроля?
И. Матвеев: Непонятно, в какой стране. Просто крупного олигархата или именно в России?
spichka: В России.
И. Матвеев: Я думаю, что есть перспективы. Было бы странно говорить, что их нет. В конце концов мы знаем такую страну — Бразилия. В Бразилии были военная хунта и власть крупного капитала, преуспевающего среднего класса и военных, которые это всё защищали. Тем не менее левые, католики, самые разные социальные движения объединились и победили военную хунту. Они создали в стране демократию, а потом ещё и пришли к власти, с какими бы проблемами это ни было связано. Правление Партии трудящихся, правление Лулы, — это огромный, знаковый период для Бразилии.
Конечно, сейчас нельзя говорить о каком-то абсолютном триумфе там, потому что Партию трудящихся атакуют со всех сторон, а Лулу посадили в тюрьму — вообще громят левый полюс в обществе. Всё-таки история Бразилии говорит нам о том, что социальные движения возможны в стране с крупным олигархическим капиталом и неразвитой демократией — даже в авторитарной стране они могут приводить к демократизации и социальному прогрессу. При Луле, например, практически исчезли голодные — те, у кого не хватает денег на еду. В Бразилии таких людей были десятки миллионов. Лула серией мощнейших социальных программ уничтожил слой людей, которым не хватает денег на еду. Теперь всем стало хватать на еду. Это на самом деле очень мощное достижение. В таких полупериферийных странах, как Бразилия и Россия, возможен социальный прогресс — я в этом уверен.
spichka: Чем обусловлено преобладание в оппозиционном пространстве либеральной повестки? Можно ли провести аналогию с началом XIX века, когда из этой либеральной повестки в дальнейшем разовьётся коммунистическое движение из части разочаровавшихся?
И. Матвеев: Мне кажется, что здесь так просто аналогию не провести. Действительно, либеральные идеи доминируют в нашей оппозиции. Связано это с наследием Советского Союза и травмированной им интеллигенцией, которая теперь боится всего левого. А поскольку эта интеллигенция продолжает доминировать в оппозиционном движении, она продолжает носить за собой призрак антикоммунизма. Даже партия Яблоко, которая не так живодёрски настроена, как какие-то правые экономические либералы, всё равно антикоммунистическая — это один из их мощных принципов. Они повторяют одно и то же про Советский Союз, что он был мрачным периодом нашей истории.
Мне кажется, ситуация постепенно меняется, потому что до оппозиционных либералов начинает доходить, что, если вы всё время обращаетесь только к узкой группе «людей с хорошими лицами», вы не построите никакого движения и за вами не будет большинства или даже значимого меньшинства. Навальный — наконец-то мы сказали это слово — политик более популистского типа. Он вводит в свою риторику социальные требования именно для того, чтобы отказаться от узкого оппозиционного либерализма. Я уверен, что у левого полюса в оппозиционном движении большое будущее — даже во время событий 2011-12 годов это было видно: в тех протестах было много левых. Сейчас среди оппозиционно настроенных людей много левых.
Поэтому я задал вам вопросы про кружки: не хотите ли вы выйти из кружка в реальную жизнь? Я не просто так это спрашивал. Конечно, красивой, мощной политики у нас, может, и нет в России, но какая-то политика у нас есть! Она есть на муниципальном уровне в лице муниципальных депутатов. Можно смеяться над этим. С другой стороны, они, во-первых, так же как люди в кружках, набираются там ума-разума — они набираются опыта очень важной низовой политической деятельности. Среди них левых — в лучшем случае пересчитать по пальцам одной руки. Хотя независимых муниципальных депутатов только в Москве и в Петербурге несколько сотен. Я считаю, левые должны пойти туда, — ну хоть малая часть тех, кто в кружки ходит, — и попробовать стать муниципальными депутатами. Вот конкретное предложение. Я думаю, что это было бы очень мощно.
Я рекламирую здесь, как это некоторые его называют, «парламентский кретинизм», но, поскольку на мне уже клейма негде ставить, чего теперь сдерживаться. Я считаю, что вполне убеждённым левым нужно идти в низовую политику — это и оппозиционная политика, и реальные дела. Я понимаю, что мне возразят, что нужно ждать возникновения настоящей коммунистической партии — тогда это будет серьёзная политика. Наверное. А что за кадры будут в этой партии? Они будут только в кружках готовиться? У них должен быть хоть какой-то опыт, кроме кружкового. Я не говорю, что всем нужно пойти. Понятно, что всем, кто в кружках, я этого не рекомендую. Малая часть может попробовать общественные кампании и стать муниципальными депутатами, особенно в провинции. Я считаю, что это было бы очень круто. Этим роликом я хочу воспользоваться, чтобы к этому призвать.
spichka: Один из механизмов отмирания либеральной демократии — это лоббирование организаций, которые — осознанно или нет — действуют в интересах спонсоров. Знакомы ли вы с фактами подобного финансирования антикоммунистических или даже коммунистических организаций?
И. Матвеев: Лоббизм и демократия. У нас, в России, есть смешной момент, когда любят говорить: «Да нужно легализовать лоббистскую деятельность, чтобы было, как в Америке. Давайте просто всех лоббистов легализуем — это нормально. Лоббизм — это когда бизнес поддерживает связь с политиками…»
Что в этом нормального? Это непрозрачная деятельность. Если она легальна, она более прозрачная, но всё равно это ненормально. У бизнеса всегда будут преимущества в плане лоббизма, потому что у него есть деньги и ресурсы, чтобы продвигать свою позицию. А, например, у профсоюзов, работников, каких-то НКО — общества в целом всегда будет меньше ресурсов для этого. Оно будет проигрывать в этой лоббистской игре. Оно, как правило, и проигрывает.
Я думаю, что дело левых не лоббизмом заниматься, а скорее создавать, с одной стороны, политические структуры, с другой стороны — выходить на улицу и протестовать. Это эффективнее, чем пытаться договориться с депутатами о чём-то.
Примеры финансирования коммунистических организаций… Перейдём сразу к коммунистическим движениям. Много таких примеров в разных контекстах. Я упомянул бы ситуацию в Америке, которая была в 1960-е годы, когда там формировался несоветский левый полюс. Она, антиавторитарная левая, критиковала американскую жизнь, но при этом критиковала и Советской Союз. Казалось бы, это хорошо звучит: «Советский Союз — там тоже много проблем. Давайте искать третий путь».
А что за этим стояло? За этим стояло ЦРУ. Оно финансировало целые журналы, которые печатались в этом направлении.
Было абсолютно понятно, что это целенаправленная политика увода потенциальных кадров у Советского Союза — тех, кто ему сочувствовал. Их переводили в безопасное русло, чтобы они не ассоциировались с Советским Союзом. Потом это было пятном в биографии у многих американских левых деятелей, что они печатались в журнале, который помогало издавать ЦРУ. Вполне себе история.
spichka: Тогда перейдём к теоретическим вопросам. Какие предпосылки авторитаризма при капитализме?
И. Матвеев: Здесь можно поговорить о сочетании капитализма и демократии, даже если мы понимаем её в узком ключе как представительную демократию. С одной стороны, мы привыкли думать, что демократия и капитализм хорошо совместимы, что либеральная демократия есть там, где развит капитализм и работают демократические институты. А другие думают, что всё это ширма. На деле демократия — это диктатура буржуазии. Такая удобная формула!
Хорошо, тогда просто посмотрим на Китай. Эта страна развивается наиболее динамично из всех капиталистических стран. В ней нет никакой либеральной демократии. Уже одно это ставит под вопрос тезис, что демократия и капитализм всегда хорошо сочетаются.
Маркс оставил нам несколько важных замечаний по этому поводу. Он говорил, что парламентская республика — это форма непосредственного правления буржуазии. С другой стороны, в «18 Брюмера» он показал, что бывают особые обстоятельства, когда растёт активность рабочего класса, а буржуазия уже не может править напрямую. Тогда государство начинает автономизироваться и осуществлять власть от лица буржуазии, в её интересах, но при этом не давать ей самой никакой власти. Буржуазия отстраняется от власти, которая всё равно осуществляется в её интересах. Это и есть бонапартизм.
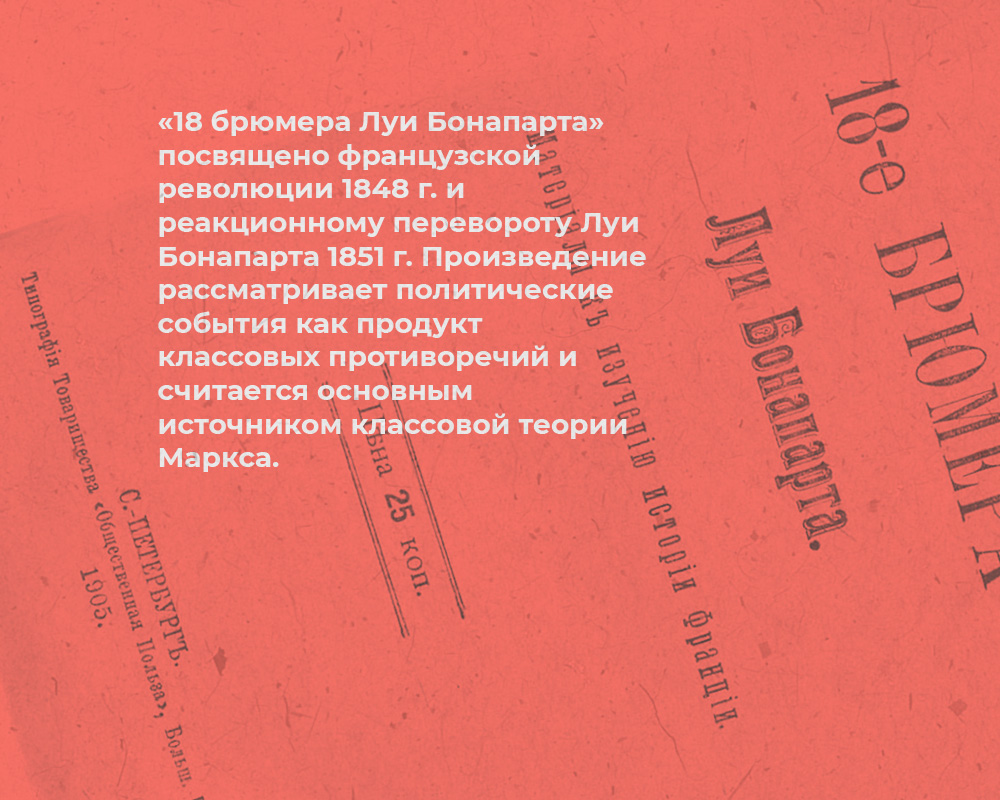
Маркс оставил нам сложную картину: иногда капитализму соответствует демократия, иногда ему соответствует какое-то экстраординарное правление — та или иная форма диктатуры.
История много раз это подтверждала: в Чили, при Пиночете, была не демократия, а диктатура, причём прямая и жесточайшая. Она была нужна, чтобы вернуть витальность капитализму и сделать так, чтобы все забыли о социалистических преобразованиях.
Бывают исторические периоды, определённые обстоятельства, когда капитализм хорошо совместим с диктатурой. При этом в периферийных и полупериферийных странах он гораздо лучше совместим с диктатурой, чем в странах ядра, и капитализм там очень часто бывает при недемократических режимах. Это большая тема — лучше о ней говорить в конкретном контексте. Важно понять, что даже Маркс показывал, что далеко не всегда парламентская демократия совместима с капиталистическим правлением. Иногда капитализму приходится вводить диктатуру, для того чтобы сохранить себя в условиях революционной ситуации.
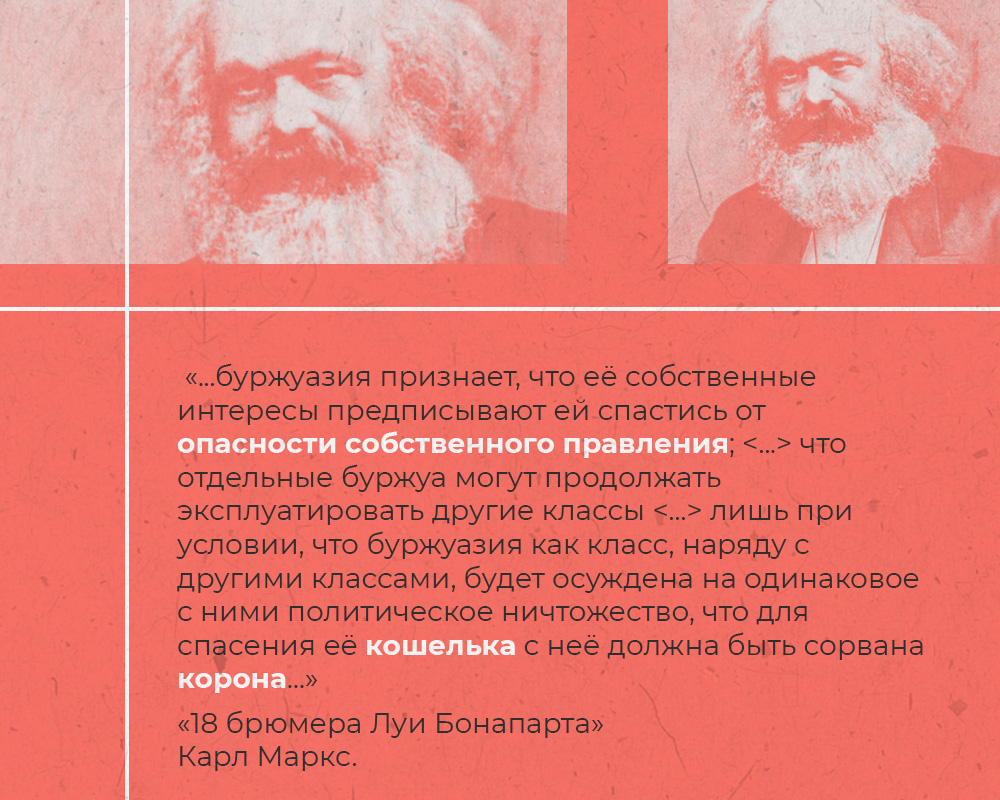
spichka: Какие практические ошибки можно сделать, отождествляя фашизм и диктатуру при капитализме?
И. Матвеев: Понятно, что это разные понятия. Они оба обозначают экстраординарный режим, когда капитализм не может сосуществовать с демократией и ему нужно что-то другое.
Фашизм от диктатуры отличается тем, что, помимо централизации государственной власти, есть некое общественное движение. Фашизм возникает из реакционного общественного движения.
Фашисты в Италии и нацисты в Германии сначала существовали в форме низового движения. Это низовое движение пошло на сделку с капиталистами в своей стране. Оно договорилось с ними о взаимовыгодном сотрудничестве: «Мы спасём вас от коммунизма, а вы будете обслуживать интересы нашей великой нации». Фашизм шире диктатуры. Фашизм, можно сказать, особая форма диктатуры, которая основана на националистическом, милитаристском низовом движении, которое спасает капитализм от революционной угрозы. Поэтому, когда говорят, что «в нашей стране фашизм», а на улице нет чернорубашечников, то это не фашизм. Фашизм — это когда фашисты маршируют с факелами. Когда в стране есть олигархическая демократия, как в Украине, и чернорубашечники в прямом смысле маршируют с факелами — это ближе к определению фашизма. Его угроза в Украине реально присутствует. Я понимаю, что так говорят пропагандисты по телевизору. А что делать, если это правда, если там в прямом смысле фашисты? Они устраивают театрализованные представления с киданием зиг. При этом они ещё постепенно колонизируют силовые ведомства изнутри: внедряются в полицию — у них там свои вооружённые батальоны. Вот это по-настоящему фашистская угроза.
spichka: Как вы можете прокомментировать примеры стран, которые до этого не имели либеральной демократии, но сумели её воспринять? Южная Корея — интересный пример страны, которая не являлась до этого страной центра и не имела давней традиции демократии, но к ней перешла.
И. Матвеев: Опять же, трудно обобщить, но я думаю, что восточноазиатские страны перешли к демократии из-за их экономического развития. Оно причина их демократизации. Толчок к их экономическому развитию был дан авторитарными режимами, которые проводили политику развития. Государство мощно участвовало в экономике, направляло её в сторону усложнения, развития экспорта — это дало мощный экономический рост. В конце концов создалась экономическая база для демократии — достаточно обеспеченные люди.
Вместе с этим стоит признать, что Южная Корея пользовалась протекцией США и, конечно, все их успехи возникли не на пустом месте, а потому, что они были частью мирового капиталистического лагеря. Было очень важно показать, что в Северной Корее всё так, а в Южной Корее лучше, потому что там капитализм. Америка сильно помогала Южной Корее разными способами.
spichka: Значит ли это, что определённая демократизация будет происходить в Китае в связи с развитием его экономики?
И. Матвеев: Честно говоря, мне трудно сказать. С одной стороны, да, логика указывает нам, что действительно так и происходило в Японии и при других обстоятельствах — в Южной Корее. С другой стороны, Китайская компартия спасалась тем, что у неё была легитимность, исходящая из результатов. Люди не протестовали, потому что экономика росла на 7 % каждый год. О чём протестовать, если твоя жизнь каждый год улучшается? В России такие темпы роста были всего восемь лет — с 2000-го по 2008-й год, — а у них они уже больше двух десятилетий. За счёт этого любые попытки демократизации жёстко подавлялись. Понятно, что китайское руководство совершенно сознательно взяло курс на то, чтобы всеми способами избегать демократизации. С другой стороны, экономический рост Китая замедляется — это и до коронавируса было заметно. У них перенакопление капитала, и его некуда вкладывать. Они вкладывают его в проекты с нулевой отдачей вроде городов, в которых никто не живёт. Что там будет дальше, в связи с этим трудно сказать. Я думаю, начнутся социальные противоречия. Тем более в Китае есть социальные движения, например мощное экологическое движение. Потому что авторитарный режим не мешает им выходить на улицу и требовать, чтобы у них было меньше смога в воздухе. Я не берусь делать прогнозы, потому что я не китаист. У меня есть приятели, которые хорошо в этом разбираются, но я могу сказать только в общих чертах.
spichka: Как вы относитесь к теории тоталитаризма в трактовке Арендт? Есть ли в ней какие-либо истинные элементы? Если да, то какие?
И. Матвеев: Есть. Хорошо отношусь к этой теории. Мне кажется, основная мысль этой теории, что тоталитаризм не про государство, а скорее про общество.
Тоталитаризм — это крайняя степень атомизации общества, когда люди изолированы друг от друга и у них нет горизонтальных связей.
Все связи, которые между ними существуют, опосредованы государством. Все они входят в один союз, например в комсомол, партию, союз художников, а сами они никак не связаны между собой. У них нет никаких независимых от власти ассоциаций. Тоталитаризм — это крайняя атомизация. Мне кажется, это глубокая теория, которая позволяет взглянуть по-другому на советское общество — даже не на государство, а на само общество.
spichka: В докладе «Либеральная демократия как историческая случайность» вы говорите, что либеральная демократия не является органичной для капитализма. Какая политическая система подходит для него?
И. Матвеев: Я начал отвечать на этот вопрос и привёл в пример Маркса. В разных обстоятельствах по-разному: возможна ситуация, когда либеральная демократия может сосуществовать с капитализмом, но в своём докладе я постарался показать, что мы постепенно уходим от этого времени. Сейчас мы видим противоречие между демократией и капитализмом: с одной стороны — Китай, совершенно не демократическая страна, а с другой стороны — Америка, которая всегда была странной и ущербной демократией. Американские отцы-основатели специально сделали её такой, чтобы народу было трудно что-то кардинально поменять.
У нас, в России, либералы говорят: «Нужны сдержки и противовесы, чтобы не было диктатуры». На самом деле сдержки и противовесы нужны, чтобы и народ не провёл какие-либо радикальные реформы. Сдержки и противовесы от власти народа, от власти большинства, — они именно так их понимали.
Американская политическая система сверхдецентрализована с огромным количеством мест, из-за которых может остановиться любая большая реформа. Она является во многом антидемократической и затрудняет изъявление большинством его воли. Поэтому Америка — это страна, в которой уже много десятилетий большинство населения выступает за полноценную медицину по европейскому образцу, но оно до сих пор имеет не её, а частный рынок медицинских страховок. В рамках их политической системы сложно провести такую реформу. Она сразу затрагивает столько интересов и слоёв общества, что в какой-то момент план этой реформы обязательно провалится. Обама был самым успешным в том, чтобы реформировать американскую медицину, но и его реформа не приблизила США к европейской системе здравоохранения. Скорее ответственность за страхование работников перекладывали на работодателей. Всё это я говорю к тому, чтобы показать: Америка всегда была демократией под вопросом.
Китай не демократия, а Америка — демократия под вопросом. В европейских странах демократия более развита, чем в Америке. Они шли к ней путём расширения избирательного права. С другой стороны, в Европе пропорциональная избирательная система и есть левые партии, в отличие от Америки, в которой их нет. Демократы не левые — в Америке их называют «либералами». У них либералы — левые, но все же очень условно: левые — это отдельная вещь. В Европе есть настоящие левые и социал-демократия. Там более централизованное принятие решений, поэтому и возможны какие-то широкие социальные реформы.
Тем не менее что мы видим в Европе? Европейские страны значительную часть своих полномочий отдали такой структуре, как Европейский союз. А Европейский союз — это не демократия. Есть Европарламент, но он самый ущербный среди всех европейских институтов. Он наделён наименьшей властью и решает меньше всего вопросов. Даже мейнстримные политологи пишут про демократический дефицит в Евросоюзе. Они имеют в виду, что на уровне ЕС власть народа практически отсутствует, потому что нет самого европейского народа. Многие считают, что Евросоюз возник для того, чтобы сдерживать амбиции левых партий в отдельных странах Европы. Политики теперь всегда могут сказать: «Посмотрите, нам ЕС запрещает социальные расходы. Он нам запрещает большой госдолг. Он нам то запрещает. Он нам это запрещает». ЕС стал антидемократической инстанцией. Мы видим ситуацию, в которой Китай — недемократия, США — полудемократия, а европейские демократии имеют навес в виде Евросоюза. Где здесь либеральная демократия в чистом виде?
Мы сейчас столкнулись с тем, что самая обычная либеральная демократия — исчезающий и очень редкий вид. Мы видим, как её корёжит от политического кризиса, о котором мы уже говорили; от того, что бедные не находят политического представительства; от того, что правые партии набирают силу; от того, что бедным некуда податься и правые начинают их агитировать. Это кризис сразу на многих уровнях. Немецкий исследователь Вольфганг Штрек говорил, что устойчивая либеральная демократия была только 30 лет после Второй мировой войны — с 1940-х по 1970-е годы, когда в обществе были «кейнсианский компромисс», перераспределительная политика, социальная поддержка населения, участие государства в экономике. Вот тогда либеральная демократия с кейнсианским капитализмом хорошо сочеталась. А когда капитализм стал неолиберальным, выяснилось, что с таким капитализмом, более диким, даже самая простая либеральная демократия — представительная демократия — плохо сочетается. Новые политические кризисы, новые радикальные экстремистские партии, переход власти на уровень ЕС. Перспективы либеральной демократии очень туманны. Сейчас трудно сказать, что она хорошо сочетается с капитализмом — это ещё не говоря о странах полупериферии и периферии, например России и Бразилии. Даже крупнейшие страны, например Бразилия, достигли демократизации, как мы обсудили, но, с другой стороны, в них борются с левыми недемократическими методами. Их искусственно отстраняют от власти с помощью судов и надуманных обвинений в коррупции. Предъявляют обвинение Луле, а громят его партию. Это тоже демократия с какими-то вечными оговорками. Она как-то оступается. А Боливия? Эво Моралес победил на выборах. Что с ним сделали? Военный переворот. Сначала Моралеса выгнали, а потом на выборах выиграла его партия. Пришлось вернуть Моралеса. Это тоже демократия, но такая, которой всё время мешают. Я боюсь, что простая связка между капитализмом, представительной демократией и честными выборами — даже эта простая связка под большим вопросом.
Либералы начинают всё больше это понимать. Фарид Закария написал знаменитую работу про то, что либерализм и демократия не одно и то же. По его мысли, демократия — это власть большинства, а либерализм — это права, например неприкосновенности личности и частной собственности. Поэтому, как считал Закария, когда нужно сохранить либерализм, демократией можно пожертвовать. Вот, например, Сингапур. Все права, все свободы защищены, а демократии нет. Сингапур — хорошая страна и наш путь в будущее.
Другими словами, сами либералы начинают постепенно отказываться от демократии — даже от либеральной демократии — не от прямой демократии или экономической демократии, а именно от простой представительной надстроечной демократии. Это пугающая тенденция.
Что же нас ждёт? Нас ждут период турбулентности и кризисы по всем фронтам — вот что нас ждёт.
spichka: Почему вы считаете, что либеральная демократия может помочь левым и быть инструментом в их руках?
И. Матвеев: Она точно не поможет левым автоматически. Есть теория, что представительная демократия нейтрализует революционную энергию масс и спускает её в парламентский свисток. Поэтому левые должны отказаться от всех парламентских иллюзий. Я не согласен с этой теорией. Я уже сказал, что даже большевики участвовали в выборах в Думу, хоть в партии и были разные позиции. Вспомните, что мы обсуждали План Мейднера и Швецию. Представительная демократия для левых — одна из возможных площадок, но не единственная. Левые отличаются от других сил тем, что у них должны быть организации рабочего класса, профсоюзы, уличное давление — они не победят без этого. Представительная демократия — это важное звено для левых, в котором они должны бороться за социализм. Поэтому Берни Сандерс называет своё движение не «социал-демократией», которой оно по большому счёту и является, а «демократическим социализмом». Можно сказать, это простая игра слов, но все-таки я здесь вижу нечто серьёзное. Я считаю, это что-то большее, чем социал-демократия, по крайней мере в перспективе. У них есть группа — «Демократические социалисты Америки». Они не обычные, а радикально-левые социал-демократы. При этом они не отрицают участия в выборах и собираются бороться за власть. Они не верят в капитализм.
Вот и я в него не верю. Я просто опасаюсь революционного насилия из-за тех уроков, которые нам преподаёт история в этом отношении.
spichka: А какие социальные, экономические и политические условия необходимы для формирования либеральной демократии, например в той же Европе?
И. Матвеев: Мы обсудили, что при кейнсианском компромиссе рабочие получают социальное государство, которое на некоторое время стабилизирует классовый конфликт. Это благодатная почва для либеральной демократии. В 1950-1960-е годы в европейских странах она хорошо работала: не было неразрешимых конфликтов, а партии спокойно сменяли друг друга. Всё это покоилось на мощной уступке рабочим в виде профсоюзов, растущей зарплаты и социальной поддержки. Тогда либеральная демократия работала. При этом мы знаем, что весь XIX и даже начало XX века во всей Европе боролись за всеобщее избирательное право. В XIX веке либеральная демократия никак не сочеталась с капитализмом, поэтому она была усеченной. В Англии рабочие — да и всё мужское население — получили избирательное право довольно поздно, в 1918 году. Послевоенное кейнсианство — это не просто развитый капитализм, но и классовый компромисс.
Если классового компромисса нет, демократия начинает отражать это противоречие. Она разваливается под гнётом социального конфликта.
Как в Венесуэле и Латинской Америке, есть демократия, но она всё время ломается из-за того, что классовый конфликт прямой. Он не опосредован никаким компромиссом и малейшей уступкой бедноте.
spichka: Что вы можете сказать про возникновение национального государства?
И. Матвеев: Марксистов всегда интересовало, откуда взялось государство. Эта история довольно сложная, как показывают разные исследования. Государство возникло в Европе, например, среди конкурирующих форм объединения людей. Среди городов-государств Италии, среди таких торговых союзов, как Ганзейский союз, среди феодальных владений, церкви, империй — все эти формы конкурировали друг с другом. Государство победило в конкуренции со всеми этими формами. Оно представляло собой территориально ограниченные, замкнутые политические формы, внутри которых есть бюрократия и силовой аппарат. Государство показало, что оно наиболее успешно централизует насилие. Протогосударства, которые появлялись в раннее Новое время, лучше других вели войну. Макиавелли был дипломатом. Когда он ездил во Францию, он зафиксировал, что Франция — это зарождающееся государство с мощным централизованным госаппаратом и сильной армией, а Флоренция — это не пойми что. Она не могла конкурировать с Францией. Нельзя сказать, что государство появилось само собой по причине развития капитализма. На самом деле капитализм существовал в других формах. В европейских городах-государствах был торговый капитализм. Национальные государства вобрали их в себя и привлекли их себе на службу. Они сумели подчинить себе капиталистическое накопление. Они стали собирать налоги, а на них финансировать армию и бюрократию. Этот союз возник потом. Мне кажется, неправильно искать источник государства только в развитии капитализма. Я бы скорректировал марксистскую теорию, хотя то, что я сказал, обсуждается в марксизме уже много десятилетий многими авторами. Теории возникновения государства разрабатывали Эллен Мейскинс Вуд, Роберт Бреннер, Перри Андерсон.
spichka: Посоветуйте, пожалуйста, литературу по введению в политологию.
И. Матвеев: «18 Брюмера». Этот текст Маркса надо прочитать обязательно, потому что это мощнейший политологический текст, в котором анализируется динамика политической ситуации и как действовал бонапартизм на разных уровнях. Как Луи Бонапарт и лавировал между классами, и представлял крестьян, у которых не было своего представительства.
С другой стороны, я бы порекомендовал книгу Григория Голосова «Демократия в России: Инструкция по сборке». Григорий Голосов — виднейший российский политолог — менее известный, чем, например, Екатерина Шульман. Честно скажем: он либеральный политолог, но при этом в академическом плане непревзойдённый. Он написал популярную книгу об институтах. Она скорее не об истории политики в России, а про то, с чего я начал: про пропорциональную и мажоритарную систему, президентскую и парламентскую республику. Это люди должны знать на уровне обществознания в школе, но нас этому на уроках нормально не учат. А эта книга хорошо вводит в проблематику: как устроены политические системы и к чему это приводит.
С другой стороны, наш товарищ Иван Овсянников, который состоит в питерском РСД, опубликовал книгу «В защиту большинств» — здесь он уже с социалистической точки зрения раскрывает разные вопросы, например миграцию и политику идентичности. Это хорошая просветительская книга, которая состоит из статей. Я бы её тоже рекомендовал тем, кто начинает интересоваться не социализмом вообще, а социализмом в применении к России.
Ещё можно почитать Чарльза Тилли «Демократия», «Принуждение, капитал и европейские государства».
Хорошее введение — Григорий Голосов «Сравнительная политология». Это вообще не левая да и не правая тема. Это просто описание политических систем. Либеральный крен политологии заключается в том, что она всё время пытается исследовать политику отдельно от экономики, как будто есть политика, имеющая свои законы, а экономику пусть экономисты изучают.
Естественно, марксисты не согласны с этим: они всегда пытаются вернуться к экономике, к борьбе на экономическом уровне. Однако, когда нужно изучить саму политическую сферу, нельзя обойтись без политологии.
Сноски
| 1 | «Красная волна» — период с 1998 по 2009 гг., когда к власти в 14 странах Латинской Америки пришли политические силы «левого» спектра. |
|---|