
Добро и зло Чернышевского
Содержание
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
Чернышевский говорил, что определить добро и зло можно «просто и ясно». Добр тот поступок, который очень полезен, а зол — тот, что очень вреден.
Как понять, какой поступок вреден, какой полезен? Для одних полезно то, что вредно для других. Если же два поступка полезны, то неясно, какой из них полезнее, — где истина? Чернышевский пытался её найти и задавал себе такие же вопросы.
В статье мы порассуждали с Чернышевским и его критиками, чтобы дать приблизительные понятия добра и зла.
В статье рассматривается, но почти не формулируется теория «разумного эгоизма». Мы кратко сформулировали её в отдельной статье, знакомиться с которой желательно, но необязательно.
Мысли о добре и зле, как их понимал Чернышевский
Добро и зло — объективные явления в жизни человека
Чернышевский не считал добро и зло субъективными явлениями лишь из-за того, что каждый человек понимает их по-разному. «Добр тот, кто делает хорошее для других, зол — кто делает дурное для других, — кажется, это также просто и ясно»1Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 264.. Для Чернышевского это было так же просто и ясно, как и Гольбаху, который веком ранее, в 1770 году, так определял понятия морали:
«Польза, как мы уже сказали, должна быть единственным мерилом людских суждений. Быть полезным — значит содействовать счастью своих ближних; быть вредным — значит содействовать их несчастью»2П. А. Гольбах. Система природы // Избранные произведения: в 2-х томах : [пер. с фр.] / Под общ. ред. Х. Н. Момджяна. — М. : Соцэкгиз, 1963. — Т. 1. — С. 308. — (Серия: «Философское наследие»)..
Виктор Аскоченский, религиозный историк, в 30 выпуске «Домашней беседы» (1862 г.) возражал Чернышевскому:
«При первом взгляде на это сложение [алгебраическое, каким его назвал Аскоченский. — А. П.], штука вовсе не оказывается простою до крайности. <…> Положим, приходит ко мне человек, склонный к пьянству: он просит у меня водки, как самого вожделенного для себя блага. Желая потешить себя веселием пьяного, я удовлетворяю его просьбу, и он напивается пьяным. И так, для получения себе приятности, я делаю приятное другому, который в заключение обоюдных приятностей разбивает себе или мне голову, — следовательно, по математическим выводам, я очень добрый человек!»3Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека // Домашняя беседа. — Вып. 30. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 67.
— и дальше Аскоченский добавлял:
«Автор и не воображает, что он впал здесь в противоречие и с действительностью, и с самим собой: вопрос о добром и злом человеке рассматривается у него с двух сторон — теоретической и практической. С первой стороны он решается просто, легко, как нельзя более, а со второй — с большими трудностями. Мы видели, как он рассматривал его с теоретической стороны, — с этой точки зрения, добрый человек именно тот, кто делает приятное другим, но автор и не подозревает того, что делать приятное другим нельзя в теории, что определение доброго человека он заимствовал из области практики»4Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека // Домашняя беседа. — Вып. 30. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 68..
Я не хочу выступать адвокатом Чернышевского, но в который раз мне придётся это сделать.
Николай Гаврилович в той же статье, «Антропологический принцип…» (1860 г.), что критиковал Аскоченский, писал:
«Таким образом, с теоретической стороны вопрос о добрых и злых качествах человеческой натуры разрешается столь легко, что даже и не может быть назван вопросом: он сам в себе уже заключает полный ответ. Но другое дело, если вы возьмете практическую сторону дела…»5Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 264.
— словом, Чернышевский разделял теоретические и практические стороны своих рассуждений. Здесь же он писал, что доставлять приятность другим людям нужно обдуманно, «благоразумно», ибо «…где замешана страсть, там обдуманность и хладнокровие невозможны: это истина, известная по прописям»6Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 231. — или, как говорилось, в «Что делать?» (1863 г.):
«Пресыщение! — Страсть не знает пресыщения, она знает лишь насыщение на несколько часов»7Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 339. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Дальше Чернышевский проводил мысленный эксперимент, подобный эксперименту Аскоченского о пьянчуге:
«Сделаем, например, гипотезу, что праздность приятна, а труд неприятен; если эта гипотеза станет господствующим мнением, каждый человек будет пользоваться всеми случаями, чтобы обеспечить себе праздную жизнь, заставив других работать за себя; из этого произойдут все виды порабощения и грабежа, начиная от собственно так называемого рабства и от завоевательной войны до нынешних более тонких форм тех же явлений»8Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 271..
Чтобы завершить мысль Николая Гавриловича, скажу: добиваться от людей праздности, тем самым доставляя им приятность, необдуманно и неблагоразумно; на своём примере это доказывала Жюли из романа «Что делать?» (1863 г.):
«Не тем я развращена, за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мною, что я терпела, от чего страдала, не тем я развращена, что тело моё было предано поруганью, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, чего не хочу, — вот это разврат!»9Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 61. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).
Лопухов тоже понимал, что не каждая приятность полезна человеку, и так рассуждал с Верочкой:
«Помнишь, как мы с тобою говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать всё, что нужно, чтобы ему было лучше…»10Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 246. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).
— а Кирсанов условно подытоживал их мысли в теоретической формуле:
«Сила ощущения соразмерна тому, из какой глубины организма оно поднимается. Если оно возбуждается исключительно внешним предметом, внешним поводом, оно мимолетно и охватывает только одну свою частную сторону жизни. Кто пьёт только потому, что ему подносят стакан, тот мало смыслит вкус в вине, оно слишком мало доставляет ему удовольствия…»11Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 342. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).
Чернышевский, размышляя о приятности и неприятности, о благоразумии и праздности, старался смотреть на эти явления не теоретически, а практически, скорее всего, следуя принципу, что истина конкретна.
Критерий, которым люди руководствуются, пытаясь понять, что перед ними — добро или зло, по мнению Николая Гавриловича в 1860 году, действительно, есть полезность, то есть исходя из пользы для себя люди оценивают поступки других:
«…понятие добра вовсе не расшатывается, а, напротив, укрепляется, определяется самым резким и точным образом, когда мы открываем его истинную натуру, когда мы находим, что добро есть польза»12Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 288..
При этом Чернышевский не считал, что всякая польза есть добро и всякий вред — зло.
Передаю слова рассказчика из «Что делать?» (1863 г.):
«Было в мастерской [Веры Павловны. — А. П.] ещё несколько историй, не таких уголовных, но тоже невесёлых: истории обыкновенные, те, от которых девушкам бывают долгие слёзы, а молодым или пожилым людям недолгое, но приятное развлечение»13Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 181. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Значит, добр только тот поступок, который не просто приятен кому-либо, но и рассудителен и благоразумен; злобен, напротив, такой поступок, который приятен одним и вреден другим намеренно, хотя, может быть, и случайно.
Аскоченский и Памфил Юркевич, богослов, другой критик Чернышевского, верно подметили, что люди понимают добро и зло, «приятность» и «неприятность», по-разному. Но понимать по-разному не означает понимать разное. По-моему, люди осознают действия человека добрыми или злыми, приятными или неприятными по причинам, которые от них полностью не зависят. Добро и зло совершаются не одним человеком. Какими поступки оказываются на деле, становится «…ясно для других [людей. — А. П.] через несколько времени»14Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 10 августа 1883 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 404.; а когда некоторый поступок оценивают люди, человек, совершивший его, сам «приобретает верные понятия» о характере своего деяния. Так один поступок преломляется во взглядах разных людей.
Юркевича эти рассуждения не убедили бы:
«В этих случаях, как и во всех подобных — когда, например, я покупаю ветчину, табак, вино, нанимаю повара, служителя, — действительно, “для получения приятного себе” я “должен делать приятное другим”. Однако кто же вменит мне в личную заслугу, в добродетель всё это? Я имею средства хорошо покушать, бывать в театре, кататься на извозчике: какой народ называет добрым человека за одно это?»15Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 164.
В самом деле: помочь бабушке в метро поднять сумку по лестнице — добрый или просто полезный поступок? А помочь ей, чтобы каким-то образом помочь себе? Кажется, между тем и другим нет сущностной разницы, ведь результат один и тот же — сумка бабушки поднята. Но разница, вопреки критике Юркевича, между этими поступками имеется, считал Чернышевский в 1860 году:
«Если есть какая-нибудь разница между добром и пользою, она заключается разве лишь в том, что понятие добра очень сильным образом выставляет черту постоянства, прочности, плодотворности, изобилия хорошими, долговременными и многочисленными результатами, которая, впрочем, находится в понятии пользы, именно этой чертою отличающимся от понятий удовольствия, наслаждения»16Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 289..
Аскоченский принимал эту мысль Чернышевского и говорил, что «Из хаоса, созданного и озарённого умом автора, просвечивает у него истинное понятие о добре»17Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Окончание // Домашняя беседа. — Вып. 35. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 174., — а потом добавлял:
«По нашему человеческому рассуждению, вопрос о добре и пользе разрешается очень просто: „Всё доброе есть вместе и полезное, в каком бы то ни было отношении, но не всё полезное есть доброе”. Кажется, к этому и прибавить нечего, разве только пояснить, что к добру относится всё то, что делает нас и других нравственно-добрыми, то есть честными, справедливыми, доброжелательными и т. п.; а к пользе относится всё, что способствует нашему благосостоянию, то есть здоровье, долголетие, родство, богатство, удобства жизни и т. п.»18Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Окончание // Домашняя беседа. — Вып. 35. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 174..
Отсюда следует, что если помочь бабушке в метро единожды, то это будет не добрым поступком; просто хорошим или полезным для бабушки поступком. Добрым же он окажется — или злобным, поскольку будет совершаться в злостных целях, — если будет одним из череды подобных поступков; если человек, его совершающий, совершает подобные поступки постоянно.
Человек считает поступок добрым потому, что он для него очень полезный; злым — потому, что он для него очень вредный.
«Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему полезному для людей, если мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям»19Чернышевский Н. Г. Письмо М. Н. Чернышевскому от 25 марта 1875 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 598., — писал Николай Гаврилович сыну Михаилу в 1875 году.
Словосочетания «Для людей» и «К людям» в этом письме означают, что явления добра и зла относительны, то есть выступают добром или злом в отношении к некоторому человеку, потому что только люди могут осознать результаты поступков других людей как добрые или как злые: «…слово „добрый” настоящим образом прилагается только к человеку»20Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 292..
Чернышевский осознавал, что понятия морали относительны, и так рассуждал, например, о нравственности в 1861 году: «…нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя»21Чернышевский Н. Г. Политико-экономические письма к президенту Американских Соединённых Штатов Г. К. Кэре // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 923.. Хотя относительности явлений — не только нравственных — Чернышевский определял тем же принципом, что истина не абстрактна, а конкретна.
Николай Гаврилович писал в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855 г.):
«Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, — что эти общие, отвлечённые изречения неудовлетворительны»22Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 208.
— и дальше:
«Например: „благо или зло дождь?” — это вопрос отвлечённый; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: „После того как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шёл сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?”— только тут ответ ясен и имеет смысл: „Этот дождь был очень полезен”. — „Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шёл проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?” Ответ так же ясен и так же справедлив: „Нет, этот дождь был вреден”»23Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 208..
Приведу другой пример, как Чернышевский понимал мысль о конкретности истины.
Даже когда писатель сочиняет повесть, роман, любое литературное произведение, ему стоит воспроизводить, объясняя и оценивая, не одни положительные или дурные стороны воспроизводимого, а и те и другие вместе. В 1888 году, уже вернувшись, наконец, из поселения в Астрахани, Чернышевский писал литератору Ивану Барышеву:
«…обыкновенная манера наших публицистов, романистов и драматургов нападать на купечество кажется мне довольно дурной: купцы — не злодеи и не уроды, а такие же люди, как дворяне, чиновники, священники, мужики. Можно и — если говорящий о них любит их, желает им добра, то — должно выставлять на вид им и всему обществу дурное в них; но тем же тоном, с теми же справедливыми оговорками, как выставляются на вид пороки и слабости большинства людей других сословий»24Чернышевский Н. Г. Письмо И. И. Барышеву от 7 и 8 августа 1888 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 727..
Схватывать реальность в её объективности — значит схватывать её конкретной в её многообразии, свободной от одностороннего взгляда.
Чтобы определить нечто как добро или зло, надо осознать его в отношении к чему-либо, противопоставить, например, результаты одного поступка результатам другого поступка; тогда станет ясно, какой из поступков добрее, какой — злее. Юркевич верно подметил:
«…вы не отыщете на земле людей, которые добро непосредственно признавали бы в пользе, не справляясь, каким образом поступок оказался для них полезен, какое достоинство имеет та деятельность, в результате которой оказалась польза для них или для других»25Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 168–169..
Признать поступок добрым или злым, однако, не значит сделать его добрым или злым.
Как мне представляется, добро и зло в обществе объективны, но объективны относительно отдельного лица, потому что существуют вне его сознания и независимо от него: человек не решает, что в понимании людей окажется добром, а что — злом, ведь «…только из правил, относящихся ко всем людям, без различения пола, слагается кодекс „чести” в правдивом смысле этого слова»26Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 22 марта 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 215.. Значит, продолжу свою мысль, по отношению к социальным группам, классам и обществу добро и зло объективны: личностью не определяется, чтó приносит добро и зло, то есть пользу или вред в предельной степени, социальным группам, классам и обществу.
Одновременно, на мой взгляд, в отношении лица добро и зло — субъективны, так как добро и зло осознаются и определяются людьми, состоящими в коллективах, по отдельности. Фейербах писал в 1869 году в трактате «Эвдемонизм»:
«…то самое, что в отношении к другим, то есть к тем, которые претерпевают действие, является горем или радостью, то в отношении ко мне, виновнику действия, является добром или злом»27Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 467..
Человек, по мысли Фейербаха, определяет результаты некоторого поступка добром или злом, опираясь на то, как его определяют другие люди; представления одного определяются представлениями остальных: для одного добро то, что для других — зло.
Чтобы более-менее объективно определить результаты некоторого поступка как скорее добро, чем зло, или как скорее зло, чем добро, следует, как мне кажется, рассмотреть, насколько последствия его осуществления благоприятны или пагубны для общества.
Добро и зло — явления прежде всего общественные.
При этом если некоторый поступок, заключающий добро и зло, не совершится одним и не воспримется другим человеком, не осознается им как добро или как зло, то, конечно, результаты этого поступка не будут добрыми или злыми в чьём бы то ни было понимании.
Отсюда выходит, что добро и зло — явления, которые определяются как минимум двумя людьми, а учитывая, что человек — общество, взятое в конечном существе, и результаты поступков каждого человека сказываются на жизни всех людей, то добро и зло, какие они есть объективно, то есть в отношении к обществу, определяются не двумя людьми, а коллективами людей, живущими сообща.
Относительность добра и зла при неизменчивости человека
Не бывает исключительно добра и зла.
Как мне представляется, бывают поступки и стремления человека в себе, или в возможности, добрые и злые, а в проявлении — и то, и другое в разной степени. Так считал и Николай Гаврилович, ибо «Для Чернышевского не существует зло как таковое, зло всегда проявляется в людях в виде зависти, взаимного недоверия, взаимного неуважения…»28Меснянкина И. Б. Поиски нравственной свободы: (анализ этических идеалов Н. Г. Чернышевского и Ф. М. Достоевского) : из цикла «История этических учений» / Ред. Ю. Н. Медведев. — М. : Знание, 1987. — С. 27., — писала кандидат философских наук Ирина Меснянкина.
Поступки и стремления человека «в себе, или в возможности», добрые или злые, писал Чернышевский в 1877 году, потому что «…сила зла [как и добра. — А. П.], живущая, больше или меньше, в каждом из людей, — она велика»29Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 11 апреля 1877 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 25..
Протагонист «Записок из подполья» (1864 г.) недаром рассказывал, что он «…поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов»30Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 100., и Чернышевский не спорил с мыслями Юркевича и Достоевского о том, что человек — сложнейшее существо. Однако Аскоченский возражал каждому из них в 35 выпуске «Домашней беседы» (1862 г.):
«Никто ещё не слыхал, чтобы из одного источника текла вода сладкая и горькая, пресная и кислая, свежая и вонючая: добро и зло так же противоположны между собою, как сладкая и горькая вода»31Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Окончание // Домашняя беседа. — Вып. 35. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 173.
— и потому Аскоченский, не понимая сложности человека, полагая его либо добрым, либо злым, спрашивал у Чернышевского, как же он «…подведёт под эгоистическое начало тот факт, что люди скорбят и плачут о знакомых и даже о недоброжелателях своих?»32Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Окончание // Домашняя беседа. — Вып. 35. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 173.
Николай Гаврилович, вероятно, ответил бы ему так: люди плачут о недоброжелателях своих потому, что они добры, им приятно быть добрыми и они понимают, что недоброжелатели их — тоже люди, в которых заключено не только зло, но и добро, заслуживающее сочувствия.
Юркевич, прочитав, скорее всего, только одну статью Николая Гавриловича, притом невнимательно, напрасно негодовал:
«Когда наш сочинитель превращает все человеческие поступки в эгоистические, то он рассматривает душу как струну, которая в одну единицу времени и от одного внешнего толчка может издавать только один тон. Но мы хотим не этой монотонной жизни»33Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 188..
Да, Чернышевский в статье «Антропологический принцип…» (1860 г.) писал, что «…человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое»34Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 264., но потому, что он не определял понятия добра и зла только тем, какими они кажутся человеку. Да и Николай Гаврилович не определял душу человека «одной струной». Так, он писал в рецензии на романы Льва Толстого в 1856 году:
«Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс, — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым»35Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 426..
Чернышевский больше интересовался другим вопросом — почему понятия добра и зла кажутся людям такими, а не другими, что побуждает их видеть в одном добро, а в другом — зло.
А тем, что побуждает людей видеть в поступках добро или зло, были, заключал Чернышевский, общественные отношения, в которых необходимо состоит всякий человек.
Юркевич сокрушался на эту позицию:
«Мы видели, что о человеке [исходя из статьи „Антропологический принцип…” — А. П.] вообще нельзя сказать, добр он или зол, то есть нельзя сказать, каков он вообще, что это такое существо, которое само по себе не имеет, так сказать, никакого вкуса, и только обстоятельства — словно творческие силы — делают из этого нравственного ничто нечто, имеющее вкус сладкий или горький, хороший или дурной, смотря по качеству и количеству этих обстоятельств»36Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 162..
Юркевич частично ошибался в своём возражении:
- Взгляды Чернышевского до и после 1860 года различались в своих тонкостях, и требовалось изучить, как они менялись, прежде чем критиковать положения статьи «Антропологический принцип…», и, в конце концов, внимательно прочитать её;
- Ранний Чернышевский не писал, что нельзя сказать, каков человек вообще; он писал, что нельзя сказать, добр или зол человек вообще, но можно, на его взгляд, сказать, что каждый человек стремится к приятному для себя.
Объясняется это тем, что для раннего Чернышевского люди в своей сущности сходились. В статье 1858 года он утверждал, что «Каждый человек — как все люди, в каждом — точно то же, что и в других… разница — не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм»37Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 164.. Стало быть, если исходить из логики Николая Гавриловича 1858 года, человек от природы ни добр, ни зол, пусть и эгоистичен38Чернышевский считал, что всякий человек — эгоист. Но считал он так не всегда и своей жизнью доказывал, что не один эгоизм присущ человеку. Почитай мою статью «Критика теории „разумного эгоизма”».; обстоятельства, окружающие его, определяют исходя из его стремлений к собственному счастью, каким ему быть по отношению к другим — добрым или злым; ранний Чернышевский отстаивал верность этого положения.
В диссертации (1855 г.), например, говорилось, что «…страсти достигают ненормального развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека»39Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 36.. Если человек страстного характера, то, стало быть, виновато в этом лишь его положение, что бы ни означало это слово.
В статье о «Русском человеке на rendez-vous» (1858 г.), написанной через три года после диссертации, Чернышевский подтвердил свою мысль:
«Для нас теперь ясно, что всё зависит от общественных привычек и от обстоятельств, то есть в окончательном результате всё зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств»40Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 165..
В статьях раннего Чернышевский выходило, что люди становятся «глупенькими жертвами обмана и самообмана» жизни, ибо не ведают, что делают, из-за диктата общественных отношений, тяготеющих над ними. Это заметила редакция литературного журнала «Атеней», в котором Чернышевский опубликовал статью о «Русском человеке» (1858 г.):
«Автор, вероятно для краткости, облегчает себе труднейшую из философских задач, оставляя в стороне случаи неоспоримой и существенной разности характеров, развивающихся среди совершенно одинаковых обстоятельств»41Цит. по: Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 165..
Редакция «Атенея» справедливо критиковала Чернышевского.
В той же статье Николай Гаврилович утверждал:
«Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы только неприготовленность взгляда, неопытность мысли мешала нам угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадётся нам в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в суете которой я живу; этот характер перешёл и в мою волю: какова широта взгляда, такова широта и решений; и, кроме того, невозможно не привыкнуть, наконец, поступать так, как поступают все»42Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 170..
Ранний Чернышевский осознанно принижал достоинство воли человека.
Чернышевский не признавал, что люди способны действовать вопреки общественным условиям, то есть у него человек оказывался слепком общественных устоев и нравов.
Это соответствовало мысли Гольбаха, который, как передавал его идеи Стеклов, говорил:
«Человек со всеми своими взглядами и поступками есть продукт воспитания и окружающих условий. Мнимое учение о свободе воли не основывается решительно ни на чём; опыт опровергает его на каждом шагу: опыт показывает человеку, что во всех своих действиях он подчинён необходимости…»
— и мысли Фейербаха из «Основных положений…» (1841 г.):
«Каково действие, такова и причина [смысл не поменяется, если сказать: „Какова причина, таково и действие”, — потому что действие в своих основаниях побуждается некоторой причиной, не зависящей от воли человека. — А. П.]»43Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 153.,
— то есть соответствовало той мысли, что человек не определяет свой объект, а определяется им44Эта мысль — онтологическое основание теории «разумного эгоизма», которое я раскрыл в отдельной статье..
Не признавая, что человек, определяемый обществом, способен составлять свои этические понятия, потому что за него это делают обстоятельства, Чернышевский противоречил себе, когда утверждал, что понятия добра и зла относительны, ибо они определяются отдельными людьми, живущими сообща.
Николай Гаврилович, стремясь определить, почему для одних добром является то, что является злом для других, верно обратился к общественным отношениям, но преувеличил их значение в жизни человека.
Неизменчивость человека: примеры обратного из жизни Чернышевского
В жизни, вопреки некоторым своим идеям и идеям из сочинений Гольбаха и Фейербаха, ранний Чернышевский не везде доказывал мысль, что человек всецело определяется общественными отношениями, а местами — даже опровергал её.
Например, во время одной из первых бесед с Ольгой Сократовной, 29 февраля 1853 года, Чернышевский говорил ей:
«По моим понятиям, женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает кроме того неравенство. Женщина должна быть равна мужчине. Но когда палка была долго искривлена в одну сторону, чтобы выпрямить её, должно много перегнуть на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан [„обязан”, а не „может”. — А. П.] по моим понятиям ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства»45Чернышевский Н. Г. Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 444..
Чернышевского, видимо, возмущало неравенство полов по той причине, о которой в романе «Что делать?» (1863 г.) Верочка рассказывала Кирсанову:
«Женщина играла до сих пор такую ничтожную роль в умственной жизни потому, что господство насилия отнимало у ней и средства к развитию, и мотивы стремиться к развитию»46Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 323. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Чтобы «палку» получилось «много перегнуть на другую сторону», от мужчин требуется подчиняться жёнам.
По мнению Чернышевского, мужьям нужно предоставлять своим жёнам «полную свободу действий и поведения», быть им неизменно преданными. Николай Гаврилович, по словам историка и писательницы Татьяны Богданович, в собственной любви радостно выполнял эту программу по раскрепощению женщины. Правда, Ольга Сократовна «…свободу поняла весьма упрощённо и не столько пользовалась, сколько злоупотребляла ею»47Богданович Т. А. Любовь людей шестидесятых годов / Предисл. Н. К. Пиксанова ; Переплёт и обёртка: В. П. Белкин. — Л. : Academia, 1929. — С. 33..
В статье «Возвышенное и комическое» (1855 г.) Чернышевский раскрывал понятия гениальной личности, сильной характером, способной быть самостоятельной:
«Если человек резко отличается от других людей, то, значит, очень сильны были посторонние влияния, случайные обстоятельства, в зависимости от которых развилась его личность; но эти посторонние влияния не подавили его, не сделали его существом бесцветным, бесхарактерным, которое всегда сгибается в ту сторону, куда клонит его какая-нибудь случайность, значит — ещё сильнее были в нём общечеловеческие качества, выразившиеся в твёрдых чертах его характера…»48Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 138.
Здесь же Чернышевский призывал читателей по своему желанию помогать несчастным, словно был убеждён в их способности это делать:
«Проклинайте болезнь, жалейте и лечите больных»49Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 185..
В статье о жизни и о творчестве Пушкина (1856 г.) Чернышевский сообщал педагогическую мудрость:
«…у него [у даровитого юноши, который найдёт любимого наставника. — А. П.] будут все познания, нужные человеку для того, чтобы составить себе прочные и благородные убеждения, то есть применять отношения всего, о чём случится ему судить, к понятиям справедливости и добра»50Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 27..
Чернышевский не отрицал, что юноши при должном воспитании могут сами оценивать жизнь исходя из благородных понятий, слепо не подчиняясь обстоятельствам.
Если в диссертации и в статье о «Русском человеке» независимость человеческой воли отвергалась, то, по крайней мере, в этих статьях Чернышевский предполагал, что у человека могут зародиться стремления, которые определяются не столько его общественной жизнью, сколько им самим, хотя — возможно, невольно добавлял Чернышевский — и сам его характер определяется или, во всяком случае, определялся некоторыми обстоятельствами.
В рецензии 1856 года на романы «Отрочество» и «Юность» и на «Севастопольские рассказы» Льва Толстого отчётливо проявлялась противоречивость этических взглядов Николая Гавриловича. Он писал:
«Конечно, эта способность [писать талантливые романы. — А. П.] должна быть врождена от природы, как и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этом слишком общем объяснении: только самостоятельною нравственною деятельностью развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого, надобно видеть основание силы, приобретённой его талантом»51Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 426..
Получается, с одной стороны, согласно Чернышевскому, человеку даются таланты от рождения, а с другой — он сам должен их развивать. Это странно: коли человек рождается с талантами, пусть и в виде способности к ним, то неясно, зачем ему развивать их — они и так ему предоставлены, — а если суть этой мысли Чернышевского в том, что для достижения талантов надо употреблять немало усилий, то тогда неясно, как определять, даны ли такому-то человеку способности к таким-то талантам и какие навыки ему стоит развивать.
Чернышевскому нужно было признать, что таланты предопределяются людям — видимо — от природы, и «запретить» всякой личности пробовать себя в разных областях жизни.
Либо Чернышевский должен был согласиться с тем, что таланты, пусть даже и способности к ним, у человека не врождены, но приобретаются им по мере того, как он воспитывается, общается и трудится.52Когда Николай Гаврилович писал, что людям даются некоторые способности от рождения, вероятно, он имел в виду, что эти способности предопределяются тем или иным людям из-за их классового происхождения. Например, если в России XIX в. ребёнок рождался в дворянской семье, то были велика вероятность того, что он получал хорошее образование, — во всяком случае, тогда это считалось нормой. Но проверить, считал ли так Чернышевский, говоря о способностях «от рождения», у меня не получилось.
Утверждая в «Антропологическом принципе…» (1860 г.), что людей нельзя ни бранить, ни хвалить за добро или за зло, что, дескать, от них не зависит, добрые они или злые, Чернышевский, на первый взгляд, заслуженно критиковался в статье Юркевича (1860 г.):
«Сочинитель хочет сказать, что когда мы доброе одобряем, злое не одобряем, то мы поступаем несправедливо. А между тем нравственная область открывается именно этим фактом, что некоторые поступки человека мы одобряем, а другие — порицаем. Этот факт тем замечательнее, что человек сам себя то одобряет, то не одобряет или, как говорят, имеет совесть»53Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 162..
Исправлю мысль Юркевича лишь в одном: Чернышевский писал, что не «несправедливо», а «нельзя» «…ни бранить за одно, ни хвалить за другое».
Возможные определения добра и зла, производные из этики Чернышевского
Рассуждая о нравственных поступках человека, и правда стоит задумываться, по собственной ли воле он творит добро или причиняет зло.
Возможно, человеком достигается добро для остальных механически, без должных стремлений с его стороны. Тогда несправедливо, по выражению Юркевича, вменять ему в добродетель его поступок: он же ничего не сделал внутри себя для этого; обстоятельства, возможно, его увлекли двигаться в ту или другую сторону — он и стал следовать их указаниям.
Отсюда выходит, что если помочь бабушке в метро поднять сумку по лестнице, то этот поступок будет добрым не только в том случае, если он включён в череду подобных ему поступков, но и при том условии, если человек, который его совершит, будет хотеть его совершить.
Добро — это поступок, который неоднократно делается человеком сознательно и результаты которого предельно полезны для людей, встречающихся с его последствиями.
Зло, следовательно, есть поступок, который своими результатами и причиной, идущей от воли отдельного человека, противоположен доброму поступку.
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
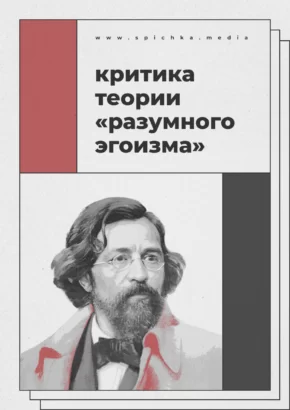 Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
 Йорис Ивенс и реализм в кино
Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра
Йорис Ивенс и реализм в кино
Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра
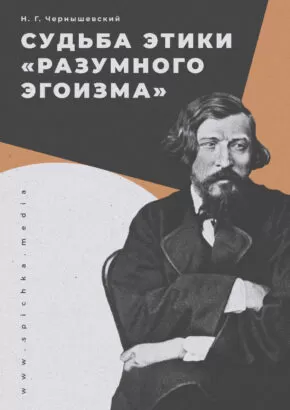 Судьба этики «разумного эгоизма»
Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма
Судьба этики «разумного эгоизма»
Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма
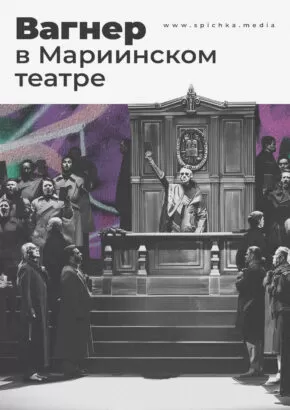 Вагнер в Мариинском театре
Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере
Вагнер в Мариинском театре
Послушали оперу «Тангейзер» в Мариинском театре — оценили постановку и поговорили о самом Вагнере