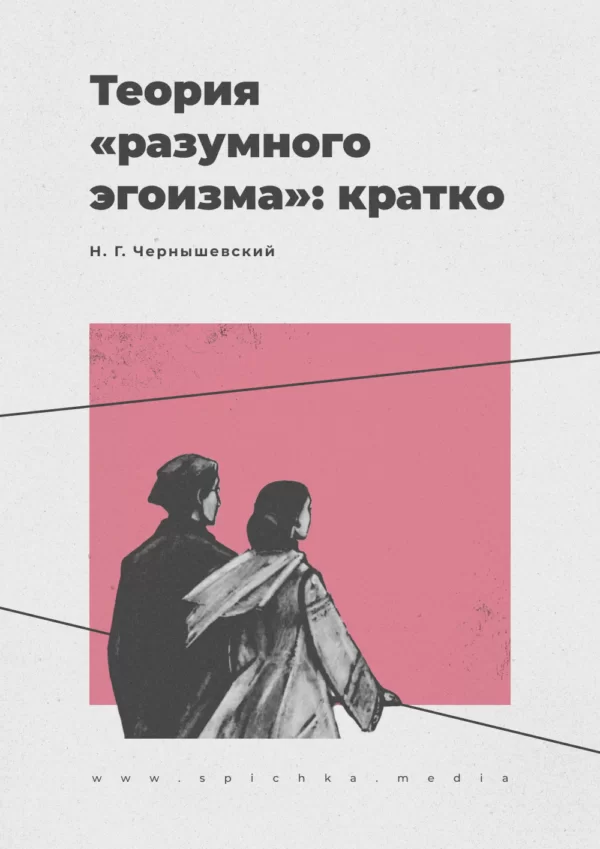
Теория «разумного эгоизма»: кратко
Содержание
Как Чернышевский мог изложить, но не изложил теорию «разумного эгоизма»
Одно неизбежное высказывание
Николая Чернышевского трудно изучать и неимоверно трудно — понимать. Месяц назад я рассказывал, что большинство исследователей знают не Чернышевского, а своё — в той или иной степени верное — мнение о нём.
Это не вина и даже не беда их: по догадке Юрия Константиновича Руденко, доктора филологических наук, «…никакое — буквально ни одно! — высказывание [Чернышевского. — А. П.] не ограничивается теми прямыми смыслами, которые в нём словесно формулируются…»;
«”Тон” Чернышевского-публициста всегда в том или ином отношении “ёрнический”, экспансивно “провокационный”, но цель его при этом — побудительная: заставить читателя думать, соображать, самостоятельно формулировать существо заявленной, но словесно отнюдь не выраженной идеи».
«Кто же и когда так читал Чернышевского? — спрашивает Юрий Константинович. — Никто. Кроме одного-единственного его читателя, современника и антагониста — Ф. М. Достоевского…»1Надеюсь, когда-нибудь судьба позволит мне полностью опубликовать эти рассуждения Юрия Константиновича, высказанные в одной из его рецензий.
Не будем обсуждать, почему Руденко выделяет Достоевского среди читателей Чернышевского. Главный вывод, вытекающий из рассуждений Юрия Константиновича:
Чернышевского необходимо открывать, читать и перечитывать.
Проблема усугубляется тем, что о теории «разумного эгоизма» в толковании Николая Гавриловича написано немало работ, но ни в одной из них, насколько мне известно, эта теория не изложена системно и в полной мере.
Прежде чем изучать явление исторически, стоит определить его, иначе изучать, в сущности, будет нечего.
Осмысливая сочинения Николая Гавриловича, надо как никогда помнить о принципе, ставшим общим местом в советской филологии: при анализе литературных произведений (как и, добавлю, любых произведений искусства), чтобы понять, а не переврать их, авторские смыслы оных непозволительно вчитывать; их следует вычитывать, то есть выявлять, определять и лишь потом — если есть на то желание — любовать.
«Для того, чтобы понять, нужно уметь отдать себя чужой точке зрения. Нужно честно читать»2Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Поэтика художественного произведения / Сост. В. В. Прозоров, Ю. Н. Борисов. — М. : Высшая школа, 2007. — С. 27., — писал Александр Скафтымов. «Читать надо наивно, заражаясь указаниями автора»3Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — Л. : Гос. изд., 1925. — С. 157., — соглашался с ним Борис Томашевский.
Хороший способ понять — хотя бы попытаться понять — Чернышевского, отдавшись его точке зрения, — проникнуться его сотнями писем и страниц дневников. Я это сделал — правда, не знаю, в какой мере проницательно, — чтобы сформулировать теорию «разумного эгоизма», которая окольными путями выражалась в быту, мыслях и трудах Николая Гавриловича. Публикую результат своей работы, который, конечно же, не будет её окончанием.4В статье я старался опираться на работы Николая Гавриловича зрелого, на мой взгляд, периода его деятельности, во время которого сильно преобразовывались его взгляды на жизнь, — на работы 1854–1862 годов. Выявить в его — и любого другого человека — мировоззрении какую бы то ни было теорию, пусть и «разумного эгоизма», невозможно; моя статья — попытка изложить неизлагаемое, но, правда, «не излагаемое» в полной мере.
Теория «разумного эгоизма» в кратком изложении
Каждый человек эгоистичен, по мнению Чернышевского, потому что старается поступать так, чтобы ему было приятно, или так, чтобы ему было неприятно сейчас, но намного приятнее потом.
Человек — расчётливое существо.
Людям свойственно «отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия»5Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 285..
Даже если человек жертвует своей жизнью, то есть создаёт себе, казалось бы, неприятность, то делает он это потому, что не может иначе: для получения бо́льшей приятности6Чернышевский неоднократно в своих работах использовал слово «приятность», рассуждая о выгодах человека, социальных слоёв и классов, — например, в статье о «Борьбе партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» (1858 г.):
«…очень приятно будет это образованным классам, обеспеченным в своём существовании; но мы уже много раз говорили, что все конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 272.). в обмен на меньшую он готов переносить любые лишения.
Отказываться от приятности человеку трудно — и тем труднее, чем настойчивее она прерывает спокойное течение его жизни: когда реальность, в которой человек добивается для себя приятности, мало соответствует его убеждениям, для него становится необходимостью восстать против неё7В статье «Федон, или о бессмертии души, Моисея Мендельсона» (1854 г.) Чернышевский привёл пример того, как человек лишается жизни, если она противоречит убеждениям, важным для него:
«Мендельсон был другом и сподвижником великого и благородного Лессинга… Когда, по смерти Лессинга, Якоби начал чернить его, Мендельсон был так взволнован клеветою на образ мыслей своего покойного друга, что это огорчение, соединённое с усиленной работою над сочинением, которое бы оправдало великого мыслителя, было главною причиною его собственной смерти» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 344.).. Если же он этого не делает, то либо для того, чтобы потом восстать против неё с большей силой, либо из-за того, что его убеждения некрепкие и потому не могут называться убеждениями8Например, в «Письмах без адреса» к Александру II (1862 г.), находясь в Александровском равелине, Чернышевский обличал самого себя — конечно, только в письме и для письма, — называя низкими свои убеждения, которые оттого переставали быть убеждениями:
«Я изменяю народу. Изменяю потому, что, руководясь личными опасениями за вещь более драгоценную для меня, нежели для народа, — за просвещение, я уже не думаю о том, полезна ли для народа забота о разрешении запутанностей положения русской нации вашими и нашими усилиями, а, напротив, не выиграл ли бы народ чрез независимое от нас занятие национальными делами больше, чем от продолжения наших хлопот о нём. В этом случае, для своей выгоды, я подавляю в себе убеждение, что ничьи посторонние заботы не приносят людям такой пользы, как самостоятельное действование по своим делам. Да, я изменяю своему убеждению и своему народу; это низко. Но мы принуждены были делать уже столько низостей, что одна лишняя ничего для нас не значит» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 10. — С. 92.)..
В людях различно проявляется эгоизм: одни не признают счастья без счастья других, вторые строят счастье на чужом горе.
Первых эгоистов Чернышевский называл разумными, так как они преумножают человеческое счастье9Чернышевский по-научному не определял, что такое счастье. В романе «Что делать?» (1863 г.) его понимание счастья скрыто в словах рассказчика и некоторых героев. Они говорили, что счастье — это состояние человека, когда он свободен, развивается и живёт в согласии с другими людьми (См., например, стр. 60, 87–88, 115, 345–347, 352, 361 по этому изданию: Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).
Хотя известно, что счастьем для Чернышевского была жена Ольга Сократовна. Свои воспоминания 1853 г. о жизни с ней Чернышевский назвал «Дневником моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 410–453.);
а в одном из писем Ольге Сократовне из ссылки Чернышевский сознавался, что её любовь к нему была «счастьем всей его жизни» (Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 11 октября 1872 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 523.).. Вторых эгоистов Чернышевский называл жалкими людьми или «шексипировыми Калибанами»10Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 230., которые преумножают своё счастье, жертвуя счастьем остальных.
Чернышевский объяснял, по какому критерию можно определить, как человек добивается своего счастья — как разумный эгоист или как «шекспиров Калибан».
Критерий разумного счастья, согласно Чернышевскому, — счастье другого11Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 166..
Если другой возмущается поведением одного, то возмущается он поведением жалкого эгоиста; встретился бы он с разумным эгоистом, то у него не оказалось бы поводов злиться из-за его действий, ибо они были бы безвредны для него.
Разумные эгоисты и противоположные им жалкие эгоисты поступают так, как не могут иначе12Например, в политическом обозрении «Современника» за май 1860 г., оценивая восстание сицилийцев того же года, Чернышевский осудил их за непоследовательность: по его мнению, им надо было восставать раньше, до 1860 г. Но и было ли надо им восставать, Чернышевский сомневался, потому что правительство, которым они возмущались, поступало дурно по необходимости:
«…мы согласны, что положение сицилийцев было тяжело. Но что за эгоизм, что за низость чувства нарушать свои обязанности к правительству из-за неприятности своего положения! Разве того требует правительство? Разве неаполитанское правительство само не знало, хорошо или дурно сицилийцам? Нет, оно знало, что им дурно. Почему же оно действовало так, что им было дурно? Разве кто-нибудь делает без надобности что бы то ни было, дурное или хорошее, всё равно? Значит, неаполитанскому правительству была надобность делать те распоряжения, которыми были недовольны сицилийцы (Чернышевский Н. Г. Политика. Май 1860 г. // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 8. — С. 110–111.).. Верно, что природа человека, по мнению Чернышевского, диктует поступать им эгоистично. Но разумны или жалки они от того, в каких общественных условиях росли и какой цели стремятся достичь. Николай Гаврилович объяснял это 1858 году в рецензии на повесть «Ася» Тургенева13Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 156–174..
Главный герой, по словам Чернышевского, воспитывался и жил в условиях, не пробуждавших в нём возвышенных чувств; он «не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык»14Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 168.. Немудрено, заключил Чернышевский, что рассказчик не понял любви Аси, а когда догадался о ней — избежал её.
Для малодушных людей закрыты или отвратительны высокие чувства, ведь высокие чувства побуждают человека поступать в угоду себе разумно, то есть без вреда для остальных; а мелочным и жалким эгоистам, согласно Чернышевскому, поступать так противно: их жизнь — «хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своём кармане, о своём брюшке или о своих забавах»15Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 169., или, как в одном из снов Верочки Алексей Мерцалов, друг её, говорил Сержу, «полковнику NN»:
«Не исповедуйтесь, Серж! … Мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном — вот почва, на которой вы выросли; эта почва фантастическая. Потому, посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, быть может, не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы полезны?»16Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 166–167. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).
Если вышло так, говорил Чернышевский, что человек воспитывался и жил в условиях, которые возвышали его характер, знал о жизни значительнее своей жизни, то поступает он или, во всяком случае, стремится поступать, как возвышенный человек. Так случилось с корнетом по фамилии Десятов, который вынужденно покончил с собой; его предсмертные записи сохранил Чернышевский (1860 г.), а Нина Михайловна Чернышевская, внучка Николая Гавриловича, в 1936 году впервые опубликовала их в журнале «Литературное наследство»17Неизданные тексты Н. Г. Чернышевского // Литературное наследство. — М. : Жур.-газ. объединение, 1936. — Т. 25–26. — С. 162–170..
Десятов застрелился, потому что товарищи по полку обвинили его в краже денег и сказали, что он очерняет полк; это была клевета, которая, по словам Десятова, «глубоко запала в его душу». Но кто распространял эту клевету, он не знал, а если бы узнал, то не вызвал бы обидчика на дуэль, потому что, по словам Чернышевского, Десятов мог стреляться лишь с честным человеком.
Оказавшись в безвыходном, как писал Чернышевский, положении, Десятов застрелился, чтобы доказать: обвинения его в воровстве — сущее злословие:
«Уважая вас и ценя честь нашего полка, я решился на самоубийство. Не вините меня, потому что чувство совести, всосанное мною вместе с молоком матери и не позволившее бы мне сделать преступление, в то же время заставило меня поднять на себя руку»18Чернышевский Н. Г. В оправдание памяти честного человека // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 415..
Чувства, взлелеянные возвышенной обстановкой, в которой воспитывался Десятов, побудили его убить себя, чтобы не бесславить свою фамилию и полк.
Люди, мелочные в душе и в поступках, такие люди, как обвинители Десятова, повинны в своих преступлениях, но, по мысли Чернышевского, неповинны в своём жалком эгоизме, потому что это не вина, а беда их19Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 165..
«Беда» потому, что «…у кого нет благородных чувств, тот человек дурной»20Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 312.; а жалкому эгоисту, дурному человеку без благородных чувств, не живётся сладко: это противоречит его природе, согласно которой человек не может существовать без другого человека; получается, двум жалким эгоистам вместе не ужиться, больше того: чем здоровее человек, тем меньше он жалкий эгоист21Чернышевский писал в рецензии на перевод «Поэтики» Аристотеля (1854 г.):
«Здоровый человек гораздо менее эгоист, гораздо добрее, нежели больной, всегда более или менее раздражительный и недовольный, хорошая квартира также больше располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная, холодная; спокойный человек (то есть находящийся не в неприятном положении) добрее, нежели раздосадованный, и т. д.» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 273.).
Неясно, какого человека Николай Гаврилович имел в виду в этом фрагменте под «эгоистом»; возможно, здесь его этическая теория ещё не оформилась, и он использовал слово «эгоист» в его привычном, общепринятом значении..
Чтобы жалких эгоистов становилось меньше, разумным эгоистам надо «выводить из подвала»22В романе «Что делать?» (1863 г.) Верочка видела сны. В одном из них к ней обращалась незнакомая девушка — то ли француженка, то ли англичанка, то ли немка… невеста всех невест, образ несчастных девушек настоящего и счастливых девушек будущего:
«”Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом?” — “Была”. — “Теперь избавилась?” — “Да”. — “Это я тебя выпустила, я тебя вылечила. Помни же, что ещё много невыпущенных, много невылеченных. Выпускай, лечи. Будешь?” — “Буду. Только как же вас зовут? Мне так хочется знать”. — “У меня много имён. У меня разные имена. Кому как надобно меня звать, такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Это и есть моё настоящее имя. Меня немногие так зовут. А ты зови так”. — И Верочка идёт по городу: вот подвал, — в подвале заперты девушки. Верочка притронулась к замку, — замок слетел: “Идите” — они выходят. Вот комната, — в комнате лежат девушки, разбиты параличом: “Вставайте” — они встают, идут, и все они опять на поле, бегают, резвятся, — ах, как весело! С ними вместе гораздо веселее, чем одной! Ах, как весело!» (Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 115. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.). тех людей, которые оказались в беде, или тех, кто не понимает, что оказался в ней; ещё разумным эгоистам надо менять учреждения — так Чернышевский называл общественные отношения23Чернышевский нигде — во всяком случае, насколько мне известно, — не использовал понятия «общественные отношения» или «общественные условия», хотя подразумевал их в своих рассуждениях.
Например, Николай Гаврилович писал в 1857 г. рецензии на «Губернские очерки» Михаила Салтыкова-Щедрина: «Привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего; на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 4. — С. 279.);
в 1857 г. — в комментарии к речи «О некоторых условиях…» российского историка Ивана Бабста: «Все общественные явления зависят от законов, управляющих обществом» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 4. — С. 494.);
в 1858 г. — в рецензии на повесть «Ася» Ивана Тургенева: «Как бы ни были умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить; злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость — вот характер, неизбежно принимаемый беседой, удаляющейся от общественных интересов» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 169.). — и добиваться коренных изменений общества; тогда людей благородных чувств, или разумных эгоистов, будет появляться больше.
Если человек поступает так, что удовлетворяет свои интересы, удовлетворяя интересы других или, во всяком случае, не мешая другим удовлетворять свои интересы, то есть живёт как разумный эгоист, он добрый человек.
Добро, писал Чернышевский, есть результат поступка, который очень полезен, так как приносит пользу многим людям; а зло — результат поступка, который очень вреден, ибо богат вредными итогами, неприятен, губителен для того, кто его совершает, и для многих других, кто сталкивается с ним.
«Добро — это как будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная польза»24Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 290., — говорил Чернышевский; значит, если продолжить его мысль, зло — это превосходная степень вреда.
Бывает, сложно понять, добрый ли поступок, который неприятен одним, но приятен другим. Но сложность понять это мнимая, считал Чернышевский:
«Точнее всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми, к тем людям, которые дают им такое название, мы находим, что всегда есть в этом отношении одна общая, непременная черта, от которой и происходит причисление поступка к разряду добрых»25Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 286..
Если человек, сословие, нация держат себя в интересах того, куда они входят как часть, — если, например, человек поступает не только в своих, но и в интересах своего сословия, — то его поступок добрый, в итоге очень полезный для каждого, состоящего в его сословии.
Фабриканты Манчестера, как рассказывал Чернышевский, были против высоких торговых тарифов, поддерживали право торговать где и с кем угодно; так они отстаивали свой интерес, понимая интерес общечеловеческий. «Все фабриканты всех государств с запретительным тарифом, вместе взятые», действовали наоборот, когда требовали увеличивать торговые тарифы. В результате манчестерские фабриканты обогатились настолько, что в достатке им не стало равных. Думая о других, они думали о себе, или поступали разумно-эгоистично.
Если поступок совершается кем-либо только в частных интересах — если, например, государство вторгается в иное государство, чтобы захватить его, — то это противно интересам общества как такового, поступок этого государства очень вредный, насыщенный злобой.
Чернышевский писал Александру II в 1862 году:
«Звали народ выручать Москву от поляков, — народ пошёл, выручил, и оставлен был в положении, хуже которого не было прежде и не могло бы быть при поляках. Потом ему сказали: выручай Малороссию; он выручил, но ни ему, ни самой Малороссии не стало от этого лучше. Ему сказали: завоюй себе связь с Европой, — он победил шведов и завоевал себе вместе с балтийскими гаванями только рекрутчину и подтверждение крепостного права. Потом, по новым призывам, он много раз побеждал турок, захватил Литву, разрушил Польшу и опять-таки не получил себе никакой пользы. Двинули его против Наполеона: он завоевал своему государству первенство в Европе, а сам был оставлен всё в прежнем положении»26Чернышевский Н. Г. Письма без адреса // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 10. — С. 91..
Польза от героических поступков российского народа, по мнению Чернышевского, доставалась не народу, а тем, кто призывал его идти на войну, — правительству и господствующим слоям общества.
Иногда это делалось в оборонительных, справедливых целях, но чаще всего — в захватнических, несправедливых.
Вторгаясь в другие государства, чтобы поработить их, народом или с помощью народа, властители России достигали собственных целей, но вредили большинству своих подданных — разночинцам, крестьянам, пролетариям и другим категориям граждан, которые угнетались ими, — ставили свои, частные интересы выше интересов большинства членов российского общества; «…никогда никакая наступательная война не была полезна нации»27Чернышевский Н. Г. Письмо М. Н. Чернышевскому от 25 марта 1875 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 598–599., — не раз говорил Николай Гаврилович.
В 1871 году, когда распространялись слухи о грядущей войне России с Западной Европой, Чернышевский писал жене из Сибири:
«Бедный русский народ, тяжело придётся ему в этом столкновении. <…> Чему быть, того не миновать. И тогда мы с тобой увидим, жалеть ли нам о том, что вот столько лет пришлось мне, от нечего делать, всё учиться, всё думать. Мы увидим: это пригодилось для нашей Родины»28Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 12 января 1871 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 505..
Войны между «государственными корпорациями», как называл их Чернышевский, то есть то, чего, на его взгляд, нельзя было миновать, неправильны, но неудивительны. Поступки человека, сословия, нации, говорил он, могут быть вредны для представителей других людей или для других сословий и наций; понятия добра и зла — относительные понятия:
«…пушкинский Годунов является читателю то честным, но низким человеком, то героем, то трусом, то мудрым и добрым царём, то безумным злодеем, и нет другого ключа к этим противоречиям, кроме упрёка виновной совести»29Чернышевский, признавая гений Пушкина, в 1855 г. упрекал его тем, что «Борис Годунов» — слабое литературное произведение:
«Лицо Годунова, получив характер мелодраматического злодея, лишилось своей целости и полноты; из живописного изображения, каким бы должно было оно быть, оно сделалось мозаическою картиною или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не из одного цельного мрамора, а сложена из золота, серебра, меди, дерева, мрамора, глины» (Чернышевский Н. Г. Сочинения А. П. Пушкина. Издание А. В. Анненкова // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 513.).
Мне же кажется, что этой мыслью Чернышевский подтвердил идею того, что не бывает только добрых и злых явлений в жизни людей: человек как никто другой относителен в доброте или злобе, а Пушкин — неясно, в какой мере осознанно, — выразил в образе Годунова то, как могут сочетаться в человеке доброе и злое начала..
Другая мысль:
«Нет сословия, которое не имело бы своих недостатков, нет положения, при котором личные интересы человека не бывали бы часто противоположны справедливым выгодам многих других людей и пользам целого государства»30Чернышевский Н. Г. Ответ на замечания г. Провинциала // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 144..
Хотя для Чернышевского было несомненным, если судить по статье «Антропологический принцип…» (1860 г.), что «общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного»31Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 286..
Человек, осознавая присущую себе эгоистичность, способен направлять её на своё благо при благе всех. Но из-за того, что «Обстоятельства могут быть благоприятны дурному, неблагоприятны хорошему»32Чернышевский Н. Г. Примечания к переводу «Введения в историю XIX в.» Г. Гервинуса // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 10. — С. 444., у него это получается тем успешнее, чем больше его благородным действиям содействуют условия, в которых он существует, чем больше они благонравны для него и для людей, окружающих его. Так он становится добрым человеком, делая людей и обстоятельства, в которых они живут, добрее.
«Рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр»33Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 291., — лаконично выражал свою теорию Чернышевский.
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
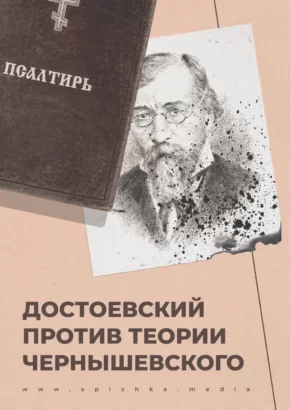 Достоевский против теории Чернышевского
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
Достоевский против теории Чернышевского
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
 Добро и зло Чернышевского
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
Добро и зло Чернышевского
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
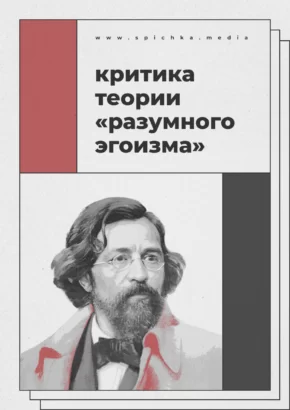 Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
 Основание теории «разумного эгоизма»
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»
Основание теории «разумного эгоизма»
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»