Как идеи определяют наше будущее? — поясняет британский марксист Перри Андерсон
Если политические идеи — всего лишь следствие базиса, то какой в них смысл? Ответ диалектический. В одни периоды ни с какими идеями выше головы не прыгнешь, в другие периоды они превращаются в мощный инструмент по переустройству мира.
В каких случаях исход политической борьбы зависит от идей и как они влияют на политику — читай в историческом обзоре Перри Андерсона.
Андерсон показывает, что идеи могут развиваться автономно и при благоприятном стечении обстоятельств стать идеологическим гегемоном.
Чтобы победить неолиберализм, не стоит просто ждать материальных предпосылок. Необходимо выработать смелую и эффективную идеологию, которая предложит альтернативу текущему миропорядку.
Предисловие «Спички»
Британский марксист Перри Андерсон в новой статье напоминает, казалось бы, давно известные марксистские истины.
Какой бы глубокой и разносторонней система политических идей ни была, её звёздный час не наступит, пока в обществе не появятся кризисные или революционные условия. В этом проявляется зависимость идейной надстройки от базиса.
Но в момент кризиса успех тех или иных политических групп будет во многом зависеть от проработанности их идей.
Обращаясь к истории самых крупных политических проектов, Андерсон указывает на ещё один поучительный факт. Чем радикальнее и рельефнее были идеи на фоне других идей, тем большую популярность они завоёвывали в обществе.
О последнем нам сегодня не мешало бы вспоминать почаще. Особенно когда мы противопоставляем теорию практике. Могут ли марксисты уже сейчас предложить принципиально новую политическую программу и внятный образ будущего? Проделали ли мы работу для создания подобного проекта? Статья Андерсона в очередной раз подводит нас к подобным вопросам.
Статья Перри Андерсона
Идеи для политических побед
Насколько важна роль идей в политических потрясениях, которые предшествовали великим историческим переменам? Являются ли они просто побочными продуктами гораздо более глубоких материальных и социальных процессов, или же они обладают решающей автономной силой в качестве сил политической мобилизации?1Заметки, первоначально подготовленные для конференции в Мексике на рубеже веков, были доработаны с тех пор. Вопреки первому впечатлению, ответы, данные на этот вопрос левыми и правыми, не сильно различаются.
Многие консерваторы и либералы, конечно, превозносили трансцендентное значение высоких идеалов и моральных ценностей в истории, записывая в грубые материалисты тех радикалов, которые настаивают на том, что экономические противоречия являются двигателем исторических перемен. Известные современные представители такого, правого идеализма — Фридрих Майнеке, Бенедетто Кроче и Карл Поппер. Для подобных мыслителей, по словам Майнеке, «идеи, переносимые и трансформируемые живыми личностями, составляют канву исторической жизни».
Другие влиятельные правые, наоборот, нападают на рационалистские заблуждения о важности искусственных доктрин о морали, противопоставляя им гораздо более стойкое значение традиционных обычаев или биологических инстинктов. Фридрих Ницше, Льюис Намье, Гэри Беккер — все они по-разному понимали объективные причины поведения людей и горько насмехались над разговорами о политических и этических ценностях. Теория рационального выбора, господствующая во многих областях англосаксонской социальной науки — наиболее известная из таких парадигм.
Подобные разногласия есть и среди левых. Если мы посмотрим на великих современных историков левого толка, то обнаружим полное безразличие к роли идей у Фернана Броделя, в отличие от страстной привязанности к ним у Р. Х. Тауни. Среди самих британских марксистов никто не спутает Эдварда Томпсона, который посвятил жизнь борьбе против того, что считал экономическим редукционизмом, с Эриком Хобсбаумом, в изложении которого история двадцатого века вообще не содержит разделов, посвящённых идеям. Если мы посмотрим на политических лидеров, то увидим, что то же противостояние повторяется ещё более отчетливо. «Движение — всё, цель — ничто», — заявил Бернштейн. Можно ли представить лучший лозунг для предавших свои идеалы, прикрываясь данной нам реальностью? Выводя это изречение, Бернштейн считал себя верным Марксу. В тот же период Ленин провозгласил — в другой известной сентенции, имевшей прямо противоположный эффект, — что каждый марксист должен знать:
Без революционной теории не может быть революционного движения.
Контраст здесь был не только между реформистами и революционерами. В рядах самих революционных левых мы находим ту же двойственность. Для Люксембург «в начале было дело», как она сама выразилась — не просто нравоучение, а понимание спонтанности действия масс, которое стало отправной точкой исторических перемен. Для анархистов это всегда оставалось правдой. С другой стороны, по мнению Грамши, рабочее движение никогда не смогло бы одержать прочных побед, если бы не достигло идеального господства — того, что он называл культурной и политической гегемонией — над обществом в целом, включая его недругов. Сталин положился в построении социализма на развитие производительных сил, Мао в Китае — на культурную революцию, способную изменить менталитет и нравы.
От идей к идеологии
Как разрешить это древнее противостояние? Идеи бывают самые разнообразные. Те, что имеют отношение к крупным историческим изменениям, как правило, представляют собой систематизированные идеологии. Йоран Терборн предложил четкую и элегантную систематику в книге, само название которой – “Идеология власти и могущество идеологии” (1980) – уже даёт нам представление о её содержании. Он делит идеологии на экзистенциальные и исторические, инклюзивные и позиционные. Среди них те, которые имели наибольший охват, пространственный или временной, характеризовались особенностью, которую, пожалуй, лучше всего уловил английский консерватор Т. С. Элиот в работе “Заметки к определению культуры” (1948). Мы легко можем заменить его понятие “культура” термином “идеология”. Ключевое наблюдение Элиота в том, что любая крупная система убеждений представляет собой иерархию различных уровней концептуальной сложности, начиная с очень сложных интеллектуальных построений на самом верху, доступных только образованной элите, и заканчивая более широкими и менее утонченными версиями на промежуточных уровнях, вплоть до самых грубых и элементарных упрощений на популярном уровне:
Все это, тем не менее, объединено единой идиомой и поддерживается соответствующим набором символических практик.
Только такая тотализированная система, утверждал он, достойна называться настоящей культурой и способна порождать великое искусство.
Идеологическая победа монотеизма
Конечно, Элиот имел в виду христианство как яркий пример системы, которая объединяет сложнейшие теологические рассуждения с простыми этическими заповедями и наивными народными суевериями в одну целостную веру. Эта вера основана на священных историях и образах, взятых из общих библейских источников.
Мировые религии, возникшие в так называемую осевую эпоху2Примечание переводчика: описание понятия осевой эпохи, или осевого времени, можно прочитать здесь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/883/%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95, представляют собой удивительную первоначальную проверку любой гипотезы о роли идей в масштабных исторических изменениях. Мало кто сомневается в огромном влиянии этих систем верований на обширные территории мира на протяжении тысячелетий. Однако трудно определить их истоки в предшествующих материальных или социальных потрясениях, сопоставимых с их собственным преобразующим воздействием и распространением. В лучшем случае мы можем сказать, что объединение Средиземноморья под властью Римской империи создало благоприятные условия для распространения универсалистского монотеизма, такого, как христианство. Или что милитаризованный кочевой образ жизни в пустынных землях под давлением роста населения, вероятно, рано или поздно нашёл бы своё собственное религиозное выражение, подобно исламу.
Однако несоответствие между предполагаемыми причинами и реальными последствиями, по-видимому, является веским аргументом в пользу того, что:
Идеи в цивилизациях той эпохи обладали значительной, даже экстраординарной, автономной силой.
Конечно, политическое влияние этих религий было различным. Христианство постепенно проникало в существующую имперскую систему изнутри, не внося значительных изменений в её социальную структуру. Однако оно создало в Церкви параллельный государству институт, который смог пережить окончательный распад империи, обеспечив минимальную культурную и политическую преемственность для последующего возникновения феодализма. Ислам, напротив, одним махом изменил политическую карту Средиземноморья и Ближнего Востока через стремительную военную экспансию. Однако мы всё ещё говорим о древности. В любом случае, системы верований, которые завоевали этот регион, добились этого без того, что мы позже назовём битвой идей.
Между язычниками и христианами или христианами и мусульманами не было длительной идеологической борьбы, поскольку изменения в вероучении происходили в Риме или Каире. Обращение в христианство происходило, по сути, путём ассимиляции либо насильно, без чётко сформулированных идеологических столкновений.
Почему произошла Реформация
Когда мы обращаемся к современной эпохе, ситуация меняется. В отличие от учений Христа или Мухаммеда, протестантская Реформация изначально представляла собой письменную доктринальную систему: она развилась в полемических трудах Лютера, Цвингли и Кальвина, прежде чем стать серьёзной силой или институциональной властью.
Поскольку протестантская Реформация возникла сравнительно недавно, легче проследить непосредственные социальные и материальные условия, способствовавшие её появлению: распад католицизма эпохи Возрождения, рост национальных настроений, неравный доступ европейских государств к Ватикану, появление книгопечатания и другие факторы.
Сейчас больше всего поражает другое: возникновение контрреформации внутри католической церкви и, как следствие, тотальная идеологическая борьба между двумя вероучениями. Эта борьба поддерживалась на самых высоких уровнях метафизических и интеллектуальных дебатов, а также всеми известными средствами массовой пропаганды — этот термин возник именно тогда. В эту эпоху по всей Европе прокатилась волна восстаний, войн и междоусобиц. Как никогда ранее, идеи, по-видимому, стали движущей силой исторических изменений.
Ни одна из последующих революций не была так непосредственно связана с вопросами интеллектуальной веры, как первые крупные потрясения, положившие начало созданию современных государств в Европе: восстание Нидерландов против Испании в XVI веке и Великое восстание и Славная революция в Англии в XVII веке.
Во всех трёх случаях непосредственным толчком к революции стал накал теологических страстей: в Нидерландах священники начали разрушать священные изображения, чтобы сохранить чистоту Священного Писания, в Шотландии был введён новый молитвенник, а в Англии возникла угроза католической реставрации.
Истоки революций XVIII века
В отличие от них, причины Американской и Французской революций XVIII века были в большей степени материальными. Ни в одном из этих событий не было мощной системы идей, которая бы вдохновила людей на первую атаку на старый колониальный или королевский порядок.
В североамериканских колониях восстание против британской монархии, вероятно, было вызвано узким экономическим эгоизмом — неприятием высоких налогов, которые взимала корона для защиты колонистов от индейцев и французов.
Во Франции же финансовый кризис, вызванный расходами на помощь американским повстанцам, привёл к созданию института позднего феодализма — Генеральных штатов. Однако реформы, которые они предложили, были быстро отменены из-за массового недовольства в сельской местности и городах, вызванного плохим урожаем и высокими ценами на зерно.
В обоих случаях разрушение старого порядка было непреднамеренным процессом, в котором преобладали материальные противоречия, а не идеологические разногласия.
Однако в глубине веков хранилась критическая культура эпохи Просвещения — огромный запас потенциально разрушительных идей и дискурсов, которые словно ждали своего часа, чтобы быть активированными в таких исключительных обстоятельствах. Именно этот ранее существовавший арсенал иконоборческих взглядов позволил превратить разрушение устоявшегося порядка в революционное созидание нового и формирование идеологического мышления, с которым мы продолжаем жить и по сей день.
Идеалы американской и, в особенности, Французской революций оставались мощным источником вдохновения для политических действий даже после того, как созданные ими институты стали привычными или были забыты.
Призрак шагает по миру…
Если основным вкладом мировых религий в историю было распространение идей универсализма и индивидуализма, особенно в эпоху Реформации, то наследие революций эпохи Просвещения заключалось в идеях народного суверенитета и гражданских прав. Однако это были лишь формальные инструменты, с помощью которых можно было свободно определить форму общества.
Вопрос о том, какой должна быть эта форма, чтобы обеспечить коллективное благополучие, встал перед XIX веком с началом промышленной революции. На него было предложено три различных ответа.
К 1848 году поле сражения для великих битв было готово. С появлением «Манифеста коммунистической партии» Европа оказалась перед выбором, который позже встал перед всей планетой: капитализм или социализм? Впервые в истории человечество столкнулось с двумя чёткими и радикально противоположными принципами социальной организации. Однако в их формулировках была асимметрия. Социализм обрёл множество разнообразных и самопровозглашённых теорий как политическое движение и историческая цель. Термин «капитализм» был изобретён его противниками. В отличие от таких явлений, как «коммерческое общество» Адама Смита, он в XIX и большей части XX века редко, если вообще когда-либо, использовал своё собственное название.
Защитники частной собственности и сторонники status quo обращались к более традиционным концепциям, ссылаясь на консервативные или либеральные принципы, а не на какую-либо открыто капиталистическую идеологию. Однако эти концепции не были надёжной альтернативой.
Многие консервативные мыслители, такие как Карлайл и Моррас, высказывали яростную неприязнь к капитализму, в то время как некоторые либеральные теоретики, такие как Милль и Вальрас, благосклонно относились к более мягким версиям социализма. Если мы посмотрим на роль идей в девятнадцатом веке, то увидим, что социализм, особенно в его марксистской версии, которая была наиболее непримиримой и материалистической, оказал гораздо большее влияние на политические действия, чем его оппонент. Не случайно никто не говорил о капиталистическом движении.
Сила существующего порядка по-прежнему в большей степени зависела от традиций, обычаев и силы, чем от какой-либо совокупности теоретических идей.
С другой стороны, к середине двадцатого века социализм как идея охватил более широкую географию приверженцев, чем когда-либо охватывала какая-либо мировая религия.
Идея национализма
И всё же эти противоположности не исчерпывали всю идеологическую вселенную. В ту эпоху существовала ещё одна великая движущая сила, отличавшаяся от них по своему характеру. Уже в 1848 году национализм в Европе показал себя ещё более мощным мобилизующим движением, чем социализм.
Две особенности определили национализм как политическую идею задолго до того, как он триумфально распространился по всему миру. С одной стороны, он не дал много значимых или оригинальных мыслителей, за исключением, возможно, Фихте. Как чётко сформулированная доктрина, он был гораздо беднее и тоньше, чем две другие политические идеи того времени. С другой стороны, именно из-за своей относительной идейной неопределённости он был необычайно гибким и мог сочетаться с различными системами, как с капитализмом, так и с социализмом. В результате он порождал как шовинизм, который способствовал межимпериалистической войне 1914 года, так и фашизм, развязавший её продолжение в 1939 году. С другой стороны, он вдохновлял революционные национально-освободительные движения в странах Третьего мира.

Победа национального идеала во многих уголках мира показала, что в современном мире нет чёткого соответствия между системой и её влиянием, интеллектуальной глубиной, широтой охвата идеологии и её способностью мобилизовать людей.
Идеи и революции XX века
В начале XX века в ключевых государствах, находящихся на периферии империалистического мира — в Мексике, Китае, России и Турции — произошли масштабные революции. Важно, как эти события контрастируют между собой.
В России и Китае идеи сыграли наиболее значимую роль в формировании, течении и исходе революционного процесса. В Мексике и России население проявило наибольшую вовлеченность, в то время как в Турции революция отличалась наибольшей привлекательностью с точки зрения национализма.
В Китае республиканская революция 1911 года потерпела неудачу, но за ней последовало интенсивное интеллектуальное брожение. Его последствия в конечном итоге привели к коммунистической революции, которая увенчалась успехом в 1949 году.
Кемалистское возрождение в Турции было основано на крайне немногих, помимо национального спасения, идеях. После установления нового режима он импортировал эклектичное множество идей.
Мексиканская и Русская революции, несомненно, являются самыми значительными событиями этого периода и представляют собой наиболее яркий контраст. В Мексике происходили масштабные социальные волнения, которые продолжались десять лет. Они не были основаны на какой-либо чётко сформулированной идеологии — ни на той, что стала их причиной, ни на той, что возникла в результате.
С точки зрения доктрины, единственная развитая идеология того периода принадлежала не революционерам, а режиму, который они свергли. Это был научный позитивизм, характерный для позднего Порфириато.
В Мексике как нигде очевидно, что политические события колоссального масштаба происходили без участия каких-либо новых идей, за исключением простых представлений о социальной справедливости.
Это — важный пример для тех, кто считает идеи основной причиной существенных исторических изменений.
Только мексиканцы могут понять, какую цену пришлось заплатить за фактический успех революции, поскольку правительство Обрегона заложило основу для режима Институционно-революционной партии (PRI).
Русская революция развивалась по совершенно иной траектории. Царизм пал в результате стихийного массового недовольства, вызванного голодом и тяготами войны. Это было начало, по своей сути гораздо более невинное, чем восстание Мадеро в Мексике.
В течение нескольких месяцев большевики пришли к власти благодаря народной агитации на темы, не менее важные, чем те, которые волновали Сапату или Вилью: хлеб, земля и мир. Однако, получив власть, Ленин и его партия смогли воспользоваться самой систематизированной и всеобъемлющей политической идеологией того времени.
В России отношения между причиной и характером революции — переплетение материальных истоков и идеальных целей — мало чем отличались от тех, что породили якобинский режим 1793 года во Франции, но там дело зашло куда дальше. И достижения, и преступления советского государства, созданного большевиками, затмили те, что совершил режим PRI, и завершились семь десятилетий спустя куда более разрушительной гибелью. Такова цена идейного волюнтаризма гомерического размаха.
Победа и поражение социализма
Последствия Октябрьской революции, безусловно, распространились не только на Россию. Под конец своей жизни Маркс предсказывал, что Россия сможет избежать полного капиталистического развития в результате народных волнений, которые вызовут цепную реакцию революций в Европе.
Эта идея легла в основу ленинской стратегии: он не верил в возможность построения социализма в таком изолированном и отсталом государстве, как Россия, но надеялся, что советский пример приведёт к пролетарским революциям по всей Европе, в обществах, где уже были созданы материальные условия для свободного объединения пролетариата при высоком уровне благосостояния и промышленной производительности.
Однако история пошла другим путём: на развитом Западе немногочисленные восстания были подавлены, в то время как революция распространилась в более отсталых обществах Востока. Огромный политический успех марксизма стал таким образом лучшим опровержением его теоретических предпосылок.
В отличие от надстроек, которые определяются экономическим базисом — идеальных структур, отражающих материальные процессы — идеология марксизма-ленинизма, в её более-менее сталинизированной форме, оказалась способна создавать там, где капитализма не было, общества, отличные от него.
Это представление о том, что производственные отношения имеют приоритет над производительными силами и даже определяют их, было популярным в рамках самого марксизма в 60-е и 70-е годы.
Однако не так-то просто было перевернуть идеи Маркса с ног на голову. В конечном итоге производительные силы взяли верх, и СССР распался. Более высокая экономическая производительность в странах, где должна была произойти революция, в конечном счёте превзошла те, где революция случилась.
Какие идеи формировались по другую сторону баррикад?
Идеологический кризис капитализма как общественного строя, который был провозглашён в его борьбе с коммунизмом, так и не был полностью преодолён. Термин «капитализм» по-прежнему использовался преимущественно как оружие против системы, а не как самоописание.
Однако в середине XX века, с началом холодной войны, в связи с тотальной борьбой между двумя враждебными блоками, потребовалась идеологическая подготовка капитала к совершенно новому уровню эффективности и интенсивности . В результате позиционирование конфликта на Западе изменилось: не капитализм против социализма, а демократия против тоталитаризма, Свободный мир против Оруэльского “1984”.
Хотя это противопоставление было лицемерным — так называемый Свободный мир включал множество военных и полицейских диктатур, — оно соответствовало реальным преимуществам Североатлантического Запада над сталинизированным Востоком. В противостоянии между блоками, знамя демократии было важным инструментом там, где в нём меньше всего нуждались — среди жителей развитых капиталистических стран. Эти люди не нуждались в том, чтобы их убеждали в преимуществах их собственных условий жизни.
По понятным причинам этот инструмент имел гораздо меньший эффект в бывших колониальных или полуколониальных странах, которыми до недавнего времени управляли сами западные демократии. Однако в Восточной Европе и, в меньшей степени, в Советском Союзе образы, созданные Оруэллом, нашли более широкий отклик.
Радиопередачи «Свободная Европа» и «Радио Свобода», которые пропагандировали достоинства американской демократии, несомненно, способствовали окончательной победе в холодной войне. И всё же главная причина победы капитализма над коммунизмом лежит ближе к нам. Она заключается в более высоких уровнях материального потребления, которые притягивали не только обездоленные массы, но и тех, кто имел больше, — бюрократическую элиту Советского блока. Эти люди попадали под влияние Запада.
Проще говоря, преимущество свободного мира, которое определило исход конфликта, заключалось в том, что у людей был выбор.
Неолиберализм победил?
Окончание холодной войны привело к образованию совершенно новой ситуации в мире. Впервые в истории капитализм смог утвердить свою идеологию, которая заявила о достижении пика социального развития. Неолиберализм утверждает, что существует идеальный порядок, основанный на свободном рынке, и невозможно представить себе более совершенную систему.
Эта идеология, которая доминирует в мире уже почти полвека, берёт своё начало в послевоенной эпохе. В то время западные страны всё ещё были в состоянии потрясения от Великой депрессии и столкнулись с новым подъемом рабочего движения после Второй мировой войны. Чтобы избежать повторения прошлых кризисов и учесть влияние новых тенденций, правительства проводили экономическую и социальную политику, направленную на регулирование производственного цикла, поддержку занятости и обеспечение некоторого уровня материальной защищённости для наименее обеспеченных слоёв населения. В то время были популярны кейнсианское управление спросом и социал-демократическое социальное обеспечение, что в совокупности привело к беспрецедентному уровню государственного вмешательства и перераспределению бюджетных средств в капиталистическом мире.
Однако среди небольшого числа радикальных мыслителей нашлись те, кто выступил против этой господствующей идеологии. Они считали, что такое государственное вмешательство может быть вредным для экономического роста и политической свободы в долгосрочной перспективе.
Одним из таких мыслителей был Фридрих фон Хайек, который стал лидером неолиберального инакомыслия. Он объединил единомышленников со всего мира в полуподпольную сеть влияния — общество Мон-Пелерин.
В течение четверти века эта группа оставалась на периферии общественного мнения, а её взгляды часто игнорировались или высмеивались. Однако с началом стагфляционного кризиса в начале 1970-х годов и последующим затяжным экономическим спадом в мировой капиталистической экономике, эта строгая и непримиримая доктрина стала более актуальной.

К 1980-м годам в США и Великобритании к власти пришли праворадикальные силы, и правительства повсеместно начали применять неолиберальные методы для выхода из кризиса. Эти меры включали сокращение прямых налогов, дерегулирование финансовых рынков и рынков труда, ослабление профсоюзов и приватизацию государственных служб.
В 1950-х и 1960-х годах Хайек был не очень известным политиком в своей стране, но теперь Рейган, Тэтчер и другие лидеры признали в нём визионера. Крах советского коммунизма в конце десятилетия стал достаточным подтверждением его давних убеждений о том, что социализм был лишь «фатальной выдумкой».
Однако именно в 90-е годы, когда Советский Союз перестал существовать, а эпоха Рейгана и Тэтчер ушла в прошлое, неолиберальное господство достигло своего пика. В это время, когда не было силового поля «свой–чужой» времен холодной войны и не было необходимости в правых радикалах у власти, правительства левоцентристских стран развитого капиталистического мира продолжали неолиберальную политику своих предшественников, смягчая риторику и предоставляя им свободу действий.
Последовательный политический дрейф наблюдался как в Европе, так и в Америке. Критерием истинной гегемонии, в отличие от простого господства, является способность формировать идеи и действия не столько своих признанных сторонников, сколько номинальных противников.
На первый взгляд режимы Клинтона и Блэра, Шрёдера и Д’Алема, не говоря уже о Кардозу и де ла Руа, пришли к власти, отвергнув жесткие доктрины накопления и неравенства, которые доминировали в 80-е годы. Фактически они обычно придерживались их или даже расширяли.
Никакой свободы врагам свободы
В то время, когда левоцентристские партии в Североатлантическом регионе претерпевали трансформацию, неолиберальная идеология распространялась по всему миру. Последователи Хайека и Фридмана занимали высокие посты в министерствах финансов от Ла-Паса до Пекина, от Окленда до Нью-Дели, от Москвы до Претории и от Хельсинки до Кингстона.
Книга Дэниела Ергина и Джозефа Станислава “Командные высоты: Битва за мировую экономику” (1998) представляет собой всесторонний обзор «великой трансформации» того периода. Она была не менее радикальной и значительно более масштабной, чем переход от классического либерализма к свободной рыночной экономике, описанный Карлом Поланьи в эпоху викторианской Англии.
Однако, в отличие от истории Поланьи, повествование Ергина и Станислава о глобальной победе неолиберализма было пронизано оптимизмом относительно освободительных перемен, которые, как они утверждали, несут свободные рынки.
Одновременно с этим происходило второе значительное событие: крестовый поход за права человека, возглавляемый Соединенными Штатами и Европейским союзом. Не все интервенционистские действия были встречены неодобрением в рамках неолиберального порядка.
Хотя экономический подход, включая перераспределение ресурсов, подвергался критике, военный подход применялся и приветствовался как никогда ранее.
Война в Персидском заливе, которая явно велась для защиты нефтяных интересов Запада, всё ещё соответствовала старой модели. Однако её последствия сформировали новые условия. Блокада Ирака, сопровождавшаяся резким усилением бомбардировок под руководством Клинтона и Блэра, представляла собой чисто карательное «гуманитарное» мероприятие.
Полномасштабная война на Балканах с воздушным ударом по Югославии не требовало участия Организации Объединенных Наций до самого конца, даже в качестве прикрытия для действий НАТО, пока все действия не были окончены. Во имя прав человека международное право было пересмотрено в одностороннем порядке, что привело к отмене суверенитета любого более мелкого государства, которое вызывало недовольство Вашингтона или Брюсселя.
Если левоцентристская версия неолиберализма запустила эту эскалацию военного превосходства, это значит, что основные идеи об имперской власти содержались уже в его исходной версии.
Например, Хайек был одним из первых, кто предложил бомбардировки стран, которые не подчинялись англо-американской воле. Он призывал к быстрым воздушным ударам по Ирану в 1979 году и Аргентине в 1982 году.
Концепция гегемонии Грамши акцентировала внимание на согласии, которое она должна обеспечить, определяя её как силу идеологического убеждения. Однако он никогда не хотел приуменьшать или забывать, что гегемония подкрепляется вооруженными репрессиями. По его мнению, «согласие плюс принуждение» были полной формулой гегемонистского порядка.
Неолиберальная вселенная, которой до сих пор правит гегемон того времени, в полной мере отвечала обоим требованиям. Сегодня эта концепция вызывает некоторые сомнения. И не только из-за того, как мы пережили кризис на Уолл-стрит в 2008 году и его последствия, но и из-за того, как угроза конкуренции со стороны Китая заставила Запад отказаться от принципов свободного рынка и обратиться к государственным субсидиям, что ещё больше увеличило общий долг в мире. Тем не менее, до сих пор не существует последовательной альтернативы неолиберализму как системе идей, доминирующей на глобальном уровне.
Эклектика неолиберализма
Сила неолиберализма не только в его экономическом влиянии. В его основе лежит гораздо более древняя система идей и ценностей, которые в XIX веке стали известны как либеральные. Взаимосвязь между ними — один из самых важных, но наименее обсуждаемых вопросов.3Здесь достаточно обратиться к одной важнейшей работе — захватывающая история журнала The Economist Александра Зевина, от эпохи Пила и Гладстоуна до времен Блэра и Кэмерона, “Либерализм в целом” (2019). Современный неолиберализм можно рассматривать как экономическую доктрину, в то время как либерализм сам по себе был набором политических идей, которые впервые приобрели систематическую форму как самостоятельное мировоззрение не в Британии, а во Франции, в мышлении Констана, Гизо и Руайе-Коллара. Эти идеи были развиты до того, как Бастиа сформулировал свои экономические теоремы. В следующем поколении их подхватил Токвиль, а в Британии — его друг и современник Джон Стюарт Милль, который также внёс свой вклад в политические и экономические дискуссии. Основными принципами классического либерализма, помимо защиты частной собственности, были конституционные ограничения власти, представительное правление с ограниченным избирательным правом и защита индивидуальных свобод. Как отмечал Констан, эта свобода, в отличие от древней, когда граждане активно участвовали в общественных делах, была современной.
К концу века индустриализация привела к росту трудоспособного населения, и для стабилизации ситуации потребовалась его интеграция в государство. В результате избирательное право было расширено, и в течение следующего столетия, после долгой борьбы за него, оно было предоставлено не только рабочим-мужчинам, но и женщинам — в странах, которые впоследствии стали называться либеральными демократиями. Люди на Западе стали приверженцами этих политических систем в основном из-за гарантированных ими гражданских свобод, а не из-за идеи народного самоопределения, которую они продвигали. Эти системы обеспечили прочную социологическую основу для официального утверждения о том, что мы живём в свободном мире, а всё остальное — это деспотизм.
Таким образом, в последние два десятилетия ХХ века в экономике доминировала неолиберальная идеология. Она была положена на уже существовавшую систему убеждений, к которой не может быть сведена. В развитых странах Запада эта система не только возникла раньше, но и была сущностно более богатой и разнообразной.
В рамках либерализма всегда существовали крайние позиции, такие как у Рассела и Дьюи, которые отвергали не только классическое невмешательство, но и саму идею капиталистической частной собственности. Неолиберализм был более сложным и менее популярным мировоззрением, чем классический либерализм.
Неолиберализм, как крайняя форма капитализма, стал термином, от которого его сторонники предпочитали откреститься как от клеветы, наведенной его противниками. В колонках Financial Times или The Economist слово «неолиберальный» обычно употребляется только в кавычках или вообще не упоминается. Однако, несмотря на это, важно быть осторожным в своих суждениях, особенно учитывая, что первые теоретики неолиберализма могли быть довольно откровенны в своих представлениях о демократии.
Мизес, например, приветствовал фашизм как спасение от социализма в Италии, в то время как Хайек открыто выступал за всеобщее избирательное право. Для обоих этих мыслителей государственный статус был более важной ценностью, чем демократия, которая могла представлять для него угрозу и которую необходимо было контролировать. Это не та идея, которую охотно разделяют периодические издания или политики, зависящие от большого количества читателей или избирателей.
Почему же тогда неолиберализм, несмотря на более тонкую доктрину и меньшее число сторонников, стал гораздо более мощной и широко распространённой идеологией, чем либерализм, на котором он основан?
Ответ на этот вопрос известен любому марксисту. Материальный базис любого развитого общества является основой всего остального: без него невозможно существование бюрократии, армии, общественных собраний, средств массовой информации, больниц, школ, тюрем, высокой и низкой культуры — всё это требует функционирующей экономики.
Поэтому там, где это нежелательно, можно обойтись без либеральных конституций или парламентов, газет или подкастов, свободных искусств или верований, но без работающей экономической системы невозможно существование любого политического или культурного порядка.
К этому центральное утверждение неолиберализма добавляет, что в настоящее время существует только один вариант развития событий. Как говорила Тэтчер: “Альтернативы не существует”. Не обязательно разделять и одобрять неолиберальные принципы, чтобы признать их неизбежность. Не случайно, что первое радикальное и долгое время успешное воплощение неолиберальной программы каким бы то ни было правительством произошло во времена жестокой диктатуры Пиночета в Латинской Америке.
Неолиберализм мог бы стать почти повсеместным явлением в странах бывшего Третьего и Второго мира, не нуждаясь в либеральной поддержке, которая ранее обеспечивала его в странах Первого мира. Полвека спустя мы по-прежнему лицом к лицу с самой успешной политической идеологией в мировой истории.
Скрытое действие неолиберализма
Некоторые люди с энтузиазмом возразили бы против такого заключения. В развитых странах эти возражения появились довольно рано и были связаны с тем, что критики считают, что нам не следует переоценивать влияние неолиберальных доктрин.
Конечно, с 1950-х или 1960-х годов ситуация изменилась: рынки стали более влиятельными, а роль государства уменьшилась. Рабочий класс стал не так силён, как раньше. Однако, если рассматривать десятилетия после победы Тэтчер в 1979 году как отдельную эпоху, то можно заметить, что в развитых странах государственные расходы оставались высокими, а системы социального обеспечения оставались более или менее нетронутыми.
Эти системы изменились гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд. Было бы ошибкой считать, что неолиберальные идеи оказали на них значительное влияние. Послевоенный консенсус поддерживался более глубокими социологическими факторами. Даже в мире идей многие политики не принимали суровые методы неолиберализма, которые на практике применялись лишь в ограниченном числе случаев. Клинтон и Блэр завяляли, что выступают за третий путь, который находится в стороне как от неолиберализма, так и от традиционного этатизма. Шрёдер твёрдо придерживался идеи создания Neue Mitte — “Нового центра”, а Жоспен говорил, что поддерживает рыночную экономику, но не рыночное общество.
С тех пор мы стали свидетелями того, как различные политические деятели выражали свои идеи:
— Сострадательный консерватизм Буша с его лозунгом «ни один ребёнок не останется без внимания»;
— Бесстрашие Обамы с его «дерзкой надеждой»;
— Трезвость Меркель с её «долговым тормозом» и «пактом об ответственности» Олланда;
— Динамизм Абэ с его «тремя стрелами»;
— «Снижение инфляции» Байдена;
— «Контракт Макрона с нацией»;
— И, наконец, самый простой и пустой из всех лозунгов — «перемены» Стармера.
Некоторые из распространённых аргументов имеют больший вес, чем другие. Безусловно, верно, что неолиберальные идеи сами по себе не обладают магической силой политического убеждения. Как и все основные идеологии, эта тоже всегда нуждалась в эмоциональных подпорках — обычно национализме — и материальных практиках — будь то инструментальных или ритуальных, — чтобы оставаться в силе.
Тем не менее, практическую основу неолиберальной гегемонии следует искать в том, что в повседневной жизни современных капиталистических обществ преобладает частное потребление — товаров и услуг, превращённых в товар. За последние четыре десятилетия это потребление достигло новых высот. Также стоит отметить рост спекуляции как центрального направления экономической деятельности во всём мире. Финансовые рынки, проникающие в социальные слои через массовые маркетинговые кампании взаимных и пенсионных фондов, — это процесс, который только начинает набирать обороты и распространяется из Северной Америки в Европу и Южное полушарие.
Социальные расходы в развитых капиталистических странах остаются высокими, но в настоящее время они становятся всё более смешанными и разбавляются притоком частного капитала во все сферы — от больниц до тюрем до взыскания налогов — которые в прошлом были бы восприняты как неприкосновенные пространства общественной власти или коллективного обеспечения.
Неолиберальная гегемония не столько диктует определенный график инноваций, который может значительно различаться в разных обществах, сколько определяет границы возможного для каждого из них.
Ярким примером её всепроникающего влияния служит то, что все правительства северных стран, независимо от их официальной политической ориентации, безоговорочно следуют требованиям военной блокады, оккупации или вмешательства за пределами Атлантического региона.
Социал-демократические режимы Скандинавии, которые когда-то имели репутацию государств независимой внешней политики, часто действуют как шакалы, находясь рядом с более крупными западными хищниками. Норвегия, например, помогала закрепить господство Израиля в Палестине, Финляндия выступала посредником при бомбардировках Югославии, а Швеция способствовала Бушевской войне с терроризмом, в Украине все они поддержали эскалацию конфликта.
Пустые разговоры о «Третьем пути» как мнимой альтернативе неолиберализму всегда были самым убедительным доказательством его прочного господства.
Изменениям — дерзкая идеология
Какие уроки могут извлечь левые силы из этого обзора? Прежде всего: идеи играют ключевую роль в балансе политических действий и в исходе исторических изменений. Во всех трёх крупных случаях современного идеологического влияния наблюдалась такая схема.
Просвещение, марксизм и неолиберализм — в каждом из этих случаев система идей достигла высокого уровня развития, находясь в изоляции от окружающей политической среды и в конфликте с ней. При этом она почти не имела шансов на немедленное влияние.
Однако, когда наступал серьёзный объективный кризис, за который данная идея не несла ответственности, субъективные интеллектуальные ресурсы, постепенно накапливавшиеся в условиях спокойствия, внезапно обрели огромную силу и становились мобилизующими идеологиями, непосредственно влияющими на ход событий. Так было в 1790-х, 1910-х и 1980-х годах.
Чем более радикальными и непримиримыми являются идеи, тем более значительное влияние они оказывают, особенно в условиях нестабильности.
Сегодня мы всё ещё находимся в ситуации, когда в большей части мира доминирует одна идеология. Сопротивление и инакомыслие не исчезли, но им всё ещё не хватает систематического и бескомпромиссного выражения.
Опыт показывает, что реформизм или эвфемистическое приспособление к существующему порядку вещей не приведут к успеху. Вместо этого требуется совершенно иной дух, который не возникнет сам собой. Необходим непоколебимый и, если потребуется, резкий анализ мира таким, какой он есть, без уступок высокомерным притязаниям правых, конформистским мифам центристов или ортодоксального снобизма некоторых левых.
Идеи, которые не способны потрясти мир, не могут его изменить.
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
 Технофеодализм. Рецензия заключённого
Теперь твой хозяин — Илон Маск. Большая рецензия Кагарлицкого
Технофеодализм. Рецензия заключённого
Теперь твой хозяин — Илон Маск. Большая рецензия Кагарлицкого
 Перри Андерсон. Стандарт цивилизованности
Впервые на русском — статья Перри Андерсона «Стандарт цивилизованности», журнал New Left Review, 2023 год
Перри Андерсон. Стандарт цивилизованности
Впервые на русском — статья Перри Андерсона «Стандарт цивилизованности», журнал New Left Review, 2023 год
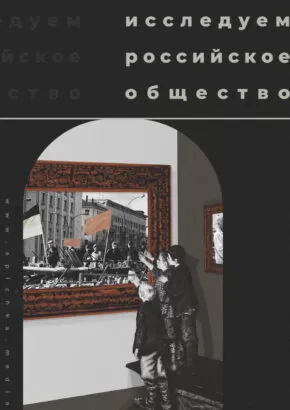 Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
Что мы знаем о России, в которой живём
Начинаем исследовать российское общество — и просим тебя помочь
 Гайд по марксистским кружкам
Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать
Гайд по марксистским кружкам
Зачем нужны марксистские кружки и как их создавать
