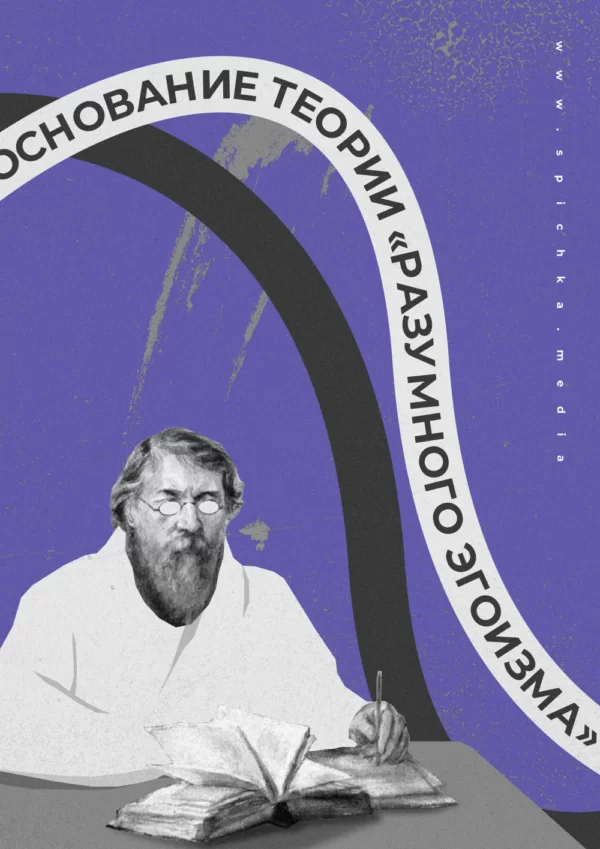
Основание теории «разумного эгоизма»
Содержание
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»
Обычно пишут общие фразы и констатируют: Николай Гаврилович разделял взгляды Фейербаха. Это почти не помогает понять Чернышевского, почему он мыслил так, а не иначе; откуда, из каких тезисов каких сочинений, проистекали его идеи и менялись ли они.
В статье я объясняю:
- На какие рассуждения Фейербаха опирался Чернышевский, когда онтологически доказывал теорию «разумного эгоизма»;
- В чём конкретно Чернышевский соглашался с Фейербахом, а в чём не соглашался с ним в онтологии, и зачастую — случайно;
- Как развивались взгляды Чернышевского на сущность человека: почему сначала он считал человека добрым, а потом — ни добрым, ни злым.
Ещё в статье рассказывается, как Чернышевский понимал «антропологический принцип в философии» и «теорию отрицательных выводов», как его критиковали богословы и писатели; приводятся письма и дневники Николая Гавриловича.
Мыслители, взгляды которых разделял Николай Чернышевский
О принципе выборки
До 14 лет Чернышевский обучался у отца, потом — в Саратовской духовной семинарии и, не окончив её, — в Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом отделении; завершив курс, Чернышевский защитил магистерскую диссертацию по русской словесности.
Выделять, каких учёных и мыслителей знал Чернышевский, — бесплодное дело: если открыть в его Полном собрании сочинений, подготовленном в 1939–1953 годах, именные указатели каждого тома, то нам откроется множество имён: Чернышевский был начитанным и глубокомыслящим человеком.1Доктор философских наук Игорь Пантин писал в статье о Чернышевском:
«Человек, мысливший с большой логической строгостью, последовательнее и систематичнее, чем большинство его современников в России, Чернышевский был хорошо знаком со всей предшествующей историей мышления, умел критически рассматривать проблемы в том виде, какой они приобрели в ходе развития теоретической мысли до него» (Пантин И. К. Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2-х томах / Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. — М. : Мысль, 1986. — Т. 1. — С. 4.).
Среди гениальных людей прошлого Чернышевский выделял, помимо других, европейских материалистов и просветителей XVIII века, немецкого философа Людвига Фейербаха, а среди своих современников — Николая Добролюбова и Максима Антоно́вича.
Руссо и Гольбах
Чернышевский в сочинениях и письмах часто ссылался на Жан-Жака Руссо и на Поль-Анри Гольбаха.
В дневнике 1850 года, уже находясь в Петербурге, Чернышевский писал: «…взял “Émile” J. J. Rousseau на несколько времени (так до вторника)»2Чернышевский Н. Г. Запись в дневнике от 16 сентября 1850 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 396. — видимо, чтобы поучиться у Руссо правильно давать уроки. А через восемь лет, в 1858 году, Чернышевский сообщал Добролюбову в письме:
«Если бы я хотел Вам исповедоваться, я рассказал бы Вам о себе подвиги более гнусные, нежели всё то, что Вы рассказываете о себе. Поверьте мне на слово — или прочтите “Confessions” Руссо, там рассказывается многое из моей жизни, но далеко не всё»3Чернышевский Н. Г. Письмо Н. А. Добролюбову от 11 августа 1858 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 360..
В статьях Чернышевский применял наработки Гольбаха. Стеклов, который исследовал жизнь и творчество Чернышевского, говорил, что «…именно этой работой [“Системой природы” Гольбаха. — А. П.]… Чернышевский руководствовался, когда писал свою знаменитую статью-манифест “Антропологический принцип” [1860 г.]»4Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 216.. Статья эта примечательна, помимо прочего, тем, что в ней искусно и пропагандистски изложены доказательства теории «разумного эгоизма».5Литературовед Аким Волынский обычно критически отзывался о взглядах и статьях Чернышевского, но, комментируя «Антропологический принцип…», он признал, что это талантливое полемическое произведение. В книге «Русские критики» (1896 г.) Волынский писал:
«Отважному бойцу на русском журнальном поле, идущему под знаменем реализма, казалось, что, самоотверженно развенчав природу, отняв у неё характер духовности и идеальности, связав задачу любви и подвига с личным стремлением каждого человека к наслаждению и выгоде, можно будет сильнее и вернее увлечь молодые силы к энергичному труду на общую пользу» (Волынский А. Л. Русские критики : Лит. очерки. — СПб. : тип. М. Меркушева, 1896. — С. 269.).
Из сибирской ссылки в 1878 году Чернышевский писал сыновьям Александру и Михаилу, что не сомневается в верности взглядов Гольбаха:
«Прав ли Коперник, или Ньютон, или Лаплас, это нимало не занимательно лично для меня. Лично для меня важно лишь то, что прав Левкипп, или — чтобы говорить о современной Лапласу науке, что прав Гольбах»6Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 6 апреля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 267..
На других материалистов и просветителей, например Дени Дидро, Клода Адриана Гельвеция, Жюльена Офре де Ламетри, Чернышевский в сочинениях ссылался реже: например, «…в дневнике его [Чернышевского. — А. П.] мы встретили только указание на сочинение Гельвеция “De l’esprit”, заинтересовавшее его постановкой моральной проблемы»7Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 213., но «это ничего не доказывает», как утверждал Стеклов и с чем я согласен.
Людвиг Фейербах
Чернышевский не по рассказам знал об идеях европейского материализма и просвещения XVIII века, потому что «Фейербах… применил к критике гегелевского идеализма положения, выдвинутые французскими просветителями XVIII века, стоявшими на точке зрения материализма»8Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 212.. Фейербах, в свою очередь, для Чернышевского значил многое.
Николай Гаврилович узнал о Фейербахе в конце 1840-х годов из российских журналов9Бельчиков Н. Ф. Николай Гаврилович Чернышевский: (критико-биографический очерк). — М. : ОГИЗ, Гос. изд-во худ. лит., 1946. — С. 98.. Ему понравилось, как он критиковал идеалистическое учение Георга Гегеля, которому сам Чернышевский, согласно его записи в дневнике от 13 октября 1848 года, некогда «почти решительно принадлежал»10Чернышевский Н. Г. Дневник второй половины 1848 и первой половины 1849 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 147..
Чернышевский прочитал труды Фейербаха «Сущность христианства» (1841 г.) — впервые он открыл этот трактат 25 февраля 1849 года11Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский : Становление и эволюция мировоззрения / Ред. И. А. Чернов. — Минск : Вышэйш. шк., 1972. — С. 53. — и «Основные положения философии будущего» (1843 г.), после чего перенял его взгляды.12Игорь Пантин подтвердил этот вывод в статье о Чернышевском, где написал:
«Преодолеть религиозное миросозерцание Чернышевскому помогает изучение работы Людвига Фейербаха “Сущность христианства”, с которой он знакомится в 1849 г. К концу пребывания в университете Чернышевский окончательно становится на позиции философского материализма и атеизма» (Пантин И. К. Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2-х томах / Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. — М. : Мысль, 1986. — Т. 1. — С. 10.).
Николай Гаврилович не раз подтверждал, что он с юных лет придерживался воззрений Фейербаха.
В 1873 году, в письме жене Ольге Сократовне и сыну Александру, он сожалел, что когда-то знал Фейербаха «чуть не наизусть»13Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. и А. Н. Чернышевским от 1 ноября 1873 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 543. и давно не перечитывал его работ. В другом письме того же года, обсуждая с сыном Александром математику, понятие труда и учения «мудрецов», Чернышевский говорил, что «…изо всех книг, какие читывал я, только у Людвига Фейербаха не находил я глупостей»14Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. и А. Н. Чернышевским от 24 ноября 1873 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 550..
В авторецензии на диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности» (1888 г.) Чернышевский признался, что пытался развивать учение Фейербаха:
«Лет через шесть после начала его [Чернышевского; Н. Г. пишет о себе. — А. П.] знакомства с Фейербахом представилась ему житейская надобность написать учёный трактат. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знаний, не входившим в круг исследований его учителя»15Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 121..
Добролюбов и Антоно́вич
Другой человек, взгляды которого разделял Чернышевский, — Добролюбов. Они познакомились в 1856 году в редакции «Современника», куда Николай Александрович принёс свою статью; тогда он оканчивал Педагогический институт и становился публицистом. Они с Чернышевским сошлись во взглядах и работали вместе, пока в 1861 году Добролюбов не скончался от болезни.
Чернышевский потерял друга, которого любил, по своему откровению, как сына16Чернышевский писал, что он любил Добролюбова как сына, в нескольких, по большей части поздних письмах.
Например, 25 февраля 1878 г. он говорил двоюродному брату Александру Николаевичу Пыпину: «У меня никогда не было ни одного приятеля, ни в юности, ни после. Добролюбова я любил, как сына…» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 138.).
Через несколько месяцев, 25 июля, о том же он написал жене Ольге Сократовне: «Наиболее правдивый изо всех был Добролюбов. Я любил его сильнее, чем Сашу или Мишу [так звали сыновей Н. Г. — А. П.]. Нравится это тебе? Обидно для наших с тобою возлюбленных детей? — Обижайся за них. Но сколько я могу разобрать мои чувства, это так: тогда я любил их меньше, нежели его. (Любил их тогда. Они были ещё маленькие дети. А у меня, ты знаешь, к маленьким детям, вообще, меньше любви, чем к большим)» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 292.)., и позже рассказывал:
«…изо всех мужчин, молодых ли, старых ли, каких я встречал лично когда-нибудь, только у Добролюбова был образ мыслей, сколько-нибудь сходный с моим»17Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. и А. Н. Чернышевским от 24 ноября 1873 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 550..
Когда Чернышевский в 1888 году объяснял Ольге Сократовне, почему ей обязана русская литература — так он неаккуратно выразился,18Сын Чернышевского Михаил подтверждал, что Ольга Сократовна «…была вдохновительницею его [Чернышевского. — А. П.] таланта, мечты о ней согревали его тяжёлую жизнь в Сибири, в этом её громадная заслуга» (Ляцкая В. А. Предисловие к «Мыслям и настроениям» по поводу любви Чернышевского; замечания Чернышевских, Михаила Николаевича и Нины Михайловны // ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп. 4. Ед. хр. № 47. Л. 5.).
Вера Александровна Ляцкая (урождённая Пыпина), дочь двоюродного брата Чернышевского, которая собирала рукописное наследие Н. Г., говорила, что Михаил переоценивал значение Ольги Сократовны в жизни русской литературы: «Неужто действительно всем, что написал Ник. Гавр., русская литература обязана О. С. и в каком смысле обязана? Как вдохновительнице или как побудительнице его работоспособности? Но, как известно, не только талант Н. Г. проявлен был задолго до знакомства с О. С., но и исключительная работоспособность и усидчивость была в нём с юных лет» (Ляцкая В. А. Мои замечания после прочтения «Послесловия» Чернышевского Михаила Николаевича // ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп. 4. № 48. Л. 5.).
И дальше: «Если у Ник. Гавр. в интимном письме к О. С., при свойственном ему по отношению к ней эмфазу, могла вырваться такая гиперболическая фраза, что, мол, русская литература обязана ей всем, половиною того, что написал он сам и написали Добролюбов и Некрасов, то невозможно себе представить, чтобы с подобным утверждением Ник. Гавр. выступил бы в печати. Считаю, что к этим его словам следует отнестись весьма осторожно и ни в каком случае не повторять их голословно: слишком хорошо изучены, исследуются и известны биографии этих писателей…» (Там же. Л. 6.).
На мой взгляд, Ляцкая была скорее права, чем неправа: Чернышевский писал Ольге Сократовне ещё до признания её великой роли в жизни русской литературы: «Невозможно для меня думать о тебе так, как думаешь о себе ты. — Я люблю тебя, только и всего должна ты думать, когда случится тебе найти в моих письмах что-нибудь о тебе, по твоему мнению о себе преувеличенное. И о том, действительно ли есть тут преувеличение, судить не нам с тобою» (Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 7 июля 1888 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 393.). — он сказал, что только Добролюбов и Некрасов понимали его чувства:
«Это [значение О. С. в жизни русской литературы. — А. П.] видели люди, имевшие ум понимать мои отношения к тебе, мотивы моей деятельности, источник моей веры в человеческий разум, Некрасов и Добролюбов»19Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 7 июля 1888 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 701..
В статье «Н. А. Добролюбов» (1861 г.) Чернышевский увековечил свою память о друге:
«Ему было только 25 лет. Но уже 4 года он стоял во главе русской литературы — нет, не только русской литературы, — во главе всего развития русской мысли.
Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не даёт ничего, кроме жгучей скорби, но невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ! До тебя не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много сделал для тебя этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих»20Чернышевский Н. Г. Н. А. Добролюбов // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 852..
После смерти Добролюбова и гражданской казни Чернышевского был человек, который годами отстаивал их взгляды в «Современнике» и в других российских журналах. Звали его Максим Алексеевич Антоно́вич.
Выпускник Петербургской духовной академии, кандидат богословия, Антонович стал материалистом, когда изучил работы французских просветителей и Фейербаха. Его первая статья вышла в «Современнике» в 1859 году с предисловием Добролюбова.
Чернышевский говорил в 1861 году, что «Антонович нимало не нуждается в том, чтобы его защищали другие»21Чернышевский Н. Г. Полемические красоты // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 716., а его философская критика «…сходна по направлению со статьями по антропологическому принципу»22Чернышевский Н. Г. Полемические красоты // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 760..
В 1888 году Чернышевский писал Антоновичу:
«Милый друг Максим Алексеевич! Чувства мои к Вам остались такими же неизменными, как Ваши ко мне. Досадно было мне видеть, что Вы не находите возможным работать для русской журналистики, нуждающейся в деятелях, подобных Вам. Сколько я могу судить по чтению, она не имела ни одного такого со времени прекращения Вашего участия в ней и не имеет ни одного, подающего надежды стать таковым»23Чернышевский Н. Г. Письмо М. А. Антоновичу от 29 августа 1888 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 743..
***
Положения, которые Николай Гаврилович не раскрывал в своих статьях, вероятно, удастся понять, если узнать, что думал о тех же вопросах Антонович: Чернышевский уважал его философские взгляды до самой смерти.
Фейербах, в свою очередь, был для Чернышевского не столько учителем, сколько человеком с умом и нравами, подобными его уму и нравам, а Добролюбов — близким другом, сыном, идейным сподвижником; полезно прислушиваться к обоим из них, изучая мировоззрение Чернышевского.
Предпосылки теории «разумного эгоизма» в учении Фейербаха
Природа человека в понимании Чернышевского. 1857 год
Главная посылка теории «разумного эгоизма» — мысль, что природа человека эгоистична. Откроем статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (1860 г.):
«При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские, и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчётом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия»24Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 285..
Другая цитата этой статьи:
«…вообще надобно бывает только всмотреться попристальнее в поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим, что в основе их всё-таки лежит та же мысль о собственной личной пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом»25Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 283..
Герои романа «Что делать?» (1863 г.) признавали в себе эгоизм и не стеснялись его: например, Верочка говорила своей подруге Жюли, советовавшей ей выйти замуж за Михаила Сторешникова, «видного и красивого офицера»:
«Для того, что не нужно мне самой, я не пожертвую ничем, — не только собой, даже малейшим капризом не пожертвую. Я хочу быть независима и жить по-своему…»26Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 60. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.).
— а рассказчик так комментировал размышления Верочки о её первом муже Дмитрии Лопухове:
«…”Лучше умереть, чем быть причиною мученья для него”; если простое чувство так говорит, что же скажет страсть, которая в тысячу раз сильнее? Она скажет: “Скорее умру, чем — не то что потребую, не то что попрошу, — а скорее, чем допущу, чтобы этот человек сделал мне что-нибудь, кроме того, что ему самому приятно; умру скорее, чем допущу, чтобы он для меня стал к чему-нибудь принуждать себя, в чём-нибудь стеснять себя”. Вот такая страсть, которая говорит так, это — любовь. А если страсть не такая, то она страсть, но вовсе не любовь»27Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 87–88. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Чернышевский, следовавший идеям европейских материалистов и просветителей XVIII века, был уверен: человек поступает так, как приятнее ему поступать, вечно руководится расчётом, ибо в этом заключена его природа.
Так говорил Дидро в комментариях к переводу «Опыта о достоинстве и добродетели» (1745 г.):
«Согласимся, что любой общественный аффект, такой, как сострадание, дружба, признательность и другие свободные и великодушные побуждения, может существовать и распространяться лишь за счёт корыстных страстей…»28Дидро Д. Принципы нравственной философии, или Опыт о достоинстве и добродетели, написанный милордом Ш *** // Сочинения: в 2-х томах : [пер. с фр.] / Сост., ред., вступит, статья и примеч. В. Н. Кузнецова. — М. : Мысль, 1986. — Т. 2. — С. 111. — (Серия: «Философское наследие»).
Так писал и Гольбах в «Системе природы» (1770 г.):
«Таким образом, говоря, что интерес есть единственный мотив человеческих действий, мы хотим этим сказать, что каждый человек по-своему трудится для своего счастья, которое он находит в каком-нибудь видимом или невидимом, реальном или воображаемом предмете — цели всего его поведения»29П. А. Гольбах. Система природы // Избранные произведения: в 2-х томах : [пер. с фр.] / Под общ. ред. Х. Н. Момджяна. — М. : Соцэкгиз, 1963. — Т. 1. — С. 311. — (Серия: «Философское наследие»)..
Реальный или воображаемый предмет для человека, согласно Гольбаху, не средство, которым он достигает цели, а сама его цель, так что человек — средство цели, подчинённое ей.
Похожим образом рассуждал Фейербах в «Сущности христианства» (1841 г.):
«Человек находит, что должно существовать только то, что кажется ему прекрасным, добрым, приятным, а всё, что он считает дурным, скверным, неприятным, составляет для него то бытие, которое не должно существовать; а так как оно всё-таки существует, — оно обречено на гибель и ничтожество»30Фейербах Л. Сущность христианства / Под. ред. В. И. Козерука. — М. : Мысль, 1965. — С. 212..
Должно же существовать или обречено на гибель только то, что́ человеку, соответственно, кажется сообразным и несообразным его эгоизму, что́ представляет для него приятность, а что́ — неприятность.
В дневнике 1849 года Чернышевский писал, что книга «Сущность христианства» побудила его пересмотреть отношение к богу, и стоит заметить, с какой открытостью ума и воодушевлением он знакомился с ней:
«В 7 час. [пошёл. — А. П.] к Ханыкову31«Ханыков Александр Владимирович (1825–1853) — вольнослушатель Петербургского университета, член кружка Петрашевского, один из ревностных последователей учения Фурье. В 1849 г. Ханыков был арестован и приговорён к расстрелу, заменённому лишением прав состояния и отдачей в рядовые в оренбургские линейные батальоны. Умер в Орской крепости от холеры» (Чернышевский Н. Г. Именной указатель // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 888–889.)., который дал Feuerbach’s Das Wesen des Christenthums. Когда я брал и шёл домой, у меня было несколько раздумья, чтó выйдет из этой книги, когда я её прочитаю, — убежусь ли я решительно в том, что говорит он, или нет; но была какая-то мысль, что я останусь почти с прежними убеждениями… однако и эти убеждения в личности бога, божественности христианства непосредственной и особенной, а не просто естественной, — всё это весьма шатко в голове.
Когда пришёл, прочитал вечером и утром сегодня введение — весьма понравилось своим благородством, прямотой, откровенностью, резкостью — человек недюжинный, с убеждениями. После прочитал ещё несколько страниц, и теперь убеждение такое, что это так: человек всегда воображал бога человечески, по своим понятиям о себе, как самого лучше абсолютного человека…»32Чернышевский Н. Г. Запись в дневнике от 4 марта 1849 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 248..
Хотя Чернышевский дальше написал, что «это ничего не доказывает»; доказывает лишь, что:
«Человек всё вообще представляет как себя… Например, Раев33«Раев Александр Фёдорович (1823–1901) — родственник Чернышевского; жил с ним в первые годы учения в Петербурге на одной квартире; студент, позднее видный петербургский чиновник, член совета министерства финансов» (Чернышевский Н. Г. Именной указатель // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 849.). думает обо мне по себе, я о Гёте и Гоголе по себе, и собственно в моём воображении под этими именами являются не Гёте и Гоголь, а я сам же, мои же понятия о них, т. е. обо мне, а не они; но они тем не менее решительно не зависят от моего существа и моей сущности»34Чернышевский Н. Г. Запись в дневнике от 4 марта 1849 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 248..
Несмотря на эти мысли, которыми позднее пропитается эстетическая и этическая теория Чернышевского, сомнения в его голове остались: «Я прочитал ещё 8–10 страниц, и, может быть, моё убеждение изменится». В итоге — изменилось.35В январе 1850 года Николай Гаврилович писал в дневнике: «В религии я не знаю, что мне сказать, — я не знаю, верю ли я в бытие бога, в бессмертие души и т. д. Теоретически я, скорее, склонен не верить, но практически у меня недостаёт твёрдости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом, а если бы у меня была смелость, то в отрицании я был бы последователь Фейербаха, в положении — не знаю чей, — кажется, тоже его» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 358.).
А вот запись из дневника Н. Г. через полгода, от 15 сентября: «Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти совершенно от души предан учению Фейербаха, а всё-таки, напр., посовестился перед маменькой не зайти 13 числа в церковь, когда шёл на пробную лекцию…» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 388.).
Через 20 лет после «Сущности христианства» (1841 г.), в трактате «О спиритуализме и материализме» (1866 г.), Фейербах развил доказательство эгоистичности человека, выдвинув три положения:
- «Человек не хочет ничего, кроме конца того, что противно его воле»;
- Воля человека определяется и привлекается предметами, которые кажутся приятными его сущности, то есть полезными, приносящими ему добро;
- Воля человека отворачивается от предметов, которые человеку кажутся вредными, потому что они, не соответствуя его сущности, портят его жизнь.36Фейербах Л. О спиритуализме и материализме // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 463–464.
Непонятно другое: что Чернышевский подразумевал под «природой человека», когда соглашался с европейскими материалистами XVIII века и с Фейербахом о присущей человеку эгоистичности: Чернышевский нигде не определял её. Но зацепка есть:
«…если Вы [Чернышевский обращался к сыновьям. — А. П.] хотите иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах»37Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 11 апреля 1877 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 23.,
— писал в 1878 году Николай Гаврилович сыновьям.
Первоначально Чернышевский скорее следовал, чем не следовал, мнению Фейербаха о природе человека, а позже скорее осмысливал, чем отстаивал его, и это было закономерно, ведь в истории мысли «Нет продолжения прямой линии, есть, скорее, отправление, отталкивание от известной точки — борьба»38Цит. по: Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // О литературе : Работы разных лет / Вступ. ст. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддес. — М. : Сов. писатель, 1987. — С. 403..
В ранние годы своей журналистской деятельности Николай Гаврилович считал, что человек в сущности своей добрый, потому что ему противно совершать злые поступки.
Например, в статье «Возвышенное и комическое» (1855 г.) Чернышевский писал:
«…нам хочется, чтобы порок и преступление необходимо, непременно наказывались»39Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 182.
— в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1856 г.):
«…всё ненатуральное вредно и тяжело для человека, и что нравственно здоровый человек, инстинктивно чувствуя это, вовсе не желает в действительности осуществления тех мечтаний, которыми забавляется праздная фантазия»40Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 229.,
— а в статье о «Губернских очерках» Михаила Салтыкова-Щедрина (1857 г.):
«[Человек есть. — А. П.] Существо, по натуре своей наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всем дурным… никогда не могущее, добровольно и свободно, предпочесть зло добру»41Чернышевский Н. Г. «Губернские очерки» Щедрина // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 4. — С. 288. 42С тем, что Чернышевский некоторое время считал человека существом, которое от рождения стремится к добру и правде, соглашалась кандидат философских наук Ирина Меснянкина:
«У Чернышевского в начале его теоретической деятельности антропологический принцип составлял главное теоретическое обоснование необходимой победы социалистических идей. Он, подобно остальным утопистам того времени, представлял себе в качестве разумного строя будущего такой строй, который соответствует естественным потребностям человека, “врождённым и неотъемлемым наклонностям человеческой природы” к добру и правде» (Меснянкина И. Б. Поиски нравственной свободы: (анализ этических идеалов Н. Г. Чернышевского и Ф. М. Достоевского) : из цикла «История этических учений» / Ред. Ю. Н. Медведев. — М. : Знание, 1987. — С. 11.)..
Вероятно, ранний43Для удобства изложения я неоднократно буду называть Чернышевского «ранним», подразумевая его жившим до 1860 г., и «поздним», подразумевая его жившим после 1860 г., тем самым условно разделяя его жизнь на два этапа; на «раннем» этапе своей деятельности Николай Гаврилович, как мне представляется, некритически разделял идеи мыслителей прошлого, а на её «позднем» этапе — скорее всего, невольно — пытался переосмысливать их. Чернышевский в своих рассуждениях руководствовался идеями Руссо, который писал в 1754 году:
«Заботься о благе твоём [Руссо обращался к человеку. — А. П.], причиняя как можно меньше зла другому. Словом, именно в этом естественном чувстве скорее, чем в каких-либо хитроумных соображениях, следует видеть причину того отвращения к совершению зла, которое всякий человек испытывает, даже независимо от тех или иных принципов воспитания»44Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства // Трактаты [пер.] / Под. ред В. С. Алексеева-Попова, Ю. М. Лотмана и др. ; Коммент. В. С. Алексеева-Попова и Л. В. Борщевской. — М. : Наука, 1969. — С. 67. — (Серия: «Литературные памятники»).
— эта идея перекликалась с мыслями Добролюбова 1859 года: «Правда, свет и счастье нужны всем; всякий к ним стремится…»45Добролюбов Н. А. Новый кодекс русской практической мудрости // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 1. — С. 560. — и 1860 года: «Естественные стремления человечества, приведённые к самому простому знаменателю, могут быть выражены в двух словах: “Чтоб всем было хорошо”»46Добролюбов Н. А. Луч света в тёмном царстве // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 2. — С. 456..
В 1857 году Чернышевский полагал, что человек — существо, доброе от природы. Хотя, подождите, «наклонное уважать и любить добро», как и сказано в рецензии Николая Гавриловича на «Губернские очерки», не равняется «быть добрым от природы», это так. Но всё-таки Чернышевский говорил, что человек никогда — «добровольно и свободно» — не предпочитает зло добру.
Существо, не могущее само предпочесть зло добру, вряд ли злое или, во всяком случае, недоброе, от природы, иначе это было бы противоречие: существо противится злу и желает добра, пока это существо свободно, а если не достигает его, то не по своей вине, — причём в то же время по своей сущности оно остаётся злым или недобрым.
Нет, Чернышевский в этой рецензии имел в виду, что человек — существо доброе, но могущее предстать злым из-за отношений, которые сковывают его свободу, вынуждают или побуждают его поступать не по-доброму.
Словом, ранний Чернышевский считал, что человек свободно выбирает только добро, потому что он добр.
Эта позиция Чернышевского подкреплялась его юношеским желанием, которым он делился в дневниках 1848 года:
«Я не хочу оскорблять человечество, судя о нём по себе вообще, а сужу о нём не по цепи всей своей жизни, а только по некоторым моментам её, когда бываю доступен чувствованиям высшим; я готов всё видеть в свете той неиспорченности, какую я желал бы иметь сам»47Цит. по: Руденко Ю. К. Н. Г. Чернышевский как художник (Юношеские произведения. Роман
«Что делать?»): дисс. … канд. филолог. наук. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1971. — С. 37..
Желать не значит иметь: Чернышевский, до своих основных этических работ, то есть, как мне представляется, до 1860-х годов, осознанно воспевал натуру человека, стремясь видеть её склонной к добру, или доброй; неудивительно, что в статье о «Губернских очерках» (1857 г.) он назвал её таковой.
Это тем более неудивительно, если взглянуть на то, чтó утверждал Фейербах в «Сущности христианства» (1841 г.), поразившей Николая Гавриловича:
«Нельзя любить, хотеть и мыслить, не считая этих факторов совершенствами, нельзя сознавать себя любящим, желающим и мыслящим существом, не испытывая при этом бесконечной радости»48Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 35..
Потому и, по словам литературоведа Евгения Ляцкого, близкого к семье Чернышевских, «…воображение Ч-го было захвачено образами, сотканными из лучей добра и правды, тихими грёзами о любви и счастии»49Ляцкий Е. А. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» // ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп. 1. № 199. Л. 31..
Итак, в 1857 году Чернышевский считал, что человек добр от природы, что он склонен любить правду и гнушаться дурным.
Эта позиция Чернышевского снова и снова подкреплялась идеями Фейербаха из «Сущности христианства» (1841 г.):
«Существенное требование религии заключается в том, чтобы объектом человека были хорошие качества в лице бога; но разве этим самым не признаётся добро в качестве главного свойства человека?»50Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 58.
— и подкреплялась идеями Фейербаха из трактата «Против дуализма тела и души, плоти и духа» (1846 г.), где говорилось, что «…все люди добры в радости, злы в горе; но источник горя есть именно отвлечение от чувств, вольное или невольное»51Фейербах Л. Против дуализма тела и души, плоти и духа // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 232., то есть люди добры почти всегда, а злыми они становятся, когда начинают жить несообразно своим чувствам.
Одновременно мысль Чернышевского, что человек добр по своей натуре, вероятно, противоречила уже поздним выводам Фейербаха, который в 1866 году в трактате «О спиритуализме и материализме» утверждал, что человек ни злой, ни добрый от природы. Добро и зло, писал Фейербах, — это относительные понятия, потому что:
«[Понятия добра и зла. — А. П.] Выражают не отношения… существа к себе самому, а в отношении его к другим, так как существо, мыслимое, только для себя одного (если таковое мыслимо и поскольку мыслимо), не является ни добрым, ни злым, ибо у него нет никакого основания и повода и никакой причины быть добрым или злым»52Фейербах Л. О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 467..
Фейербах в 1866 году доказывал, что человек не добр и не зол от природы, ссылаясь на особенности человеческой сущности.
Фейербах так увлёкся этими доказательствами — вскоре это объясню, — что запутался в них и, сам того не понимая, по-прежнему считал, что человек добр от природы, а человеческие понятия о добре и зле не относительны. Зато поздний Чернышевский — это я тоже объясню, — находясь на каторге и в ссылке, словно предвосхищая непоследовательность взглядов Фейербаха, пытался пересмотреть их.
В 1841 году Фейербах писал, что сущность человека состоит в познании, любви и хотении:
«…это силы оживотворяющие, определяющие, господствующие, это божественные, абсолютные силы, которым человек не может противостоять»53Фейербах Л. Сущность христианства / Под. ред. В. И. Козерука. — М. : Мысль, 1965. — С. 31–36.,
— поэтому человек склонен противиться тому, что противоречит его желанию хотеть, любить, познавать, склонен стремиться к счастью.
Человек тем счастливее, чем больше осуществлены его природные стремления, облекаемые в стремления его воли, чем приятнее и полезнее ему живётся. Так Фейербах «…явился выразителем материализма, совпадающем с гуманизмом»54Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1974. — Т. 3. — С. 139..
Позиция Фейербаха 1840-х годов была внутренне противоречивой.
Фейербах 1840-х годов считал, что воля человека — это его развёртывающаяся сущность, то есть развёртывающиеся познание, хотение и любовь: воля человека есть «сознательная, во вне действующая сущность человека»55Фейербах Л. О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 499.; развёртывается она в сторону объекта человека. Объект же человека, на чём настаивал Фейербах, это его «раскрывающаяся сущность»56Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 141..
Именно его «раскрывающаяся», а не «раскрытая» или «раскрываемая» сущность, то есть не объект раскрывается человеком, а человек раскрывается объектом. «…нет ничего внутри нас, чего бы не было вне нас»57Цит. по: Деборин А. М. Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. — С. 222., — говорил Фейербах58Антонович, видимо, следуя Фейербаху, писал в 1860 г.:
«Наш внутренний мир образуется, так сказать, вырастает из внешнего; он есть плод, которого корни — чувства; питательные, образовательные начала — явления внешнего мира; нельзя сказать, чтобы они были разделены непроходимой пропастью и чтобы первый из них находился в совершенном неведении и неизвестности относительно другого; они неразрывны и нераздельны; что делается в другом, то знает первый; всякое почти действие известного рода во внешнем мире вызывает реакцию во внутреннем, и эта реакция вполне соответствует действию» (Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 41.)..
Другая цитата:
«…существо, которое дышит, неизбежно связано с существом, вне его находящимся; его существенный объект, то, благодаря чему оно есть то, что оно есть, находится вне его…»59Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 139.
Именно «…то, благодаря чему оно есть то, что оно есть, находится вне его…», а не, например, «предмет, существо или явление, созданное человеком, есть благодаря ему, который объективирует себя в нём».
Получается, воля человека развёртывается сама, но не в сторону того, в чём раскрывает себя человек, а в сторону того, чем он уже раскрывается или раскрыт: «Человек — ничто без объекта»60Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 33. — или: «Всё, что имеет значение сущности в смысле субъективном, имеет значение сущности и в смысле объективном или предметном»61Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 40..
По такой логике, если объектом для человека выступает наука, он стремится быть учёным, потому что наука побуждает его им быть, а своей волей он лишь подтверждает то, что́ для него предопределено; если для человека объект — другой человек, которого он хочет любить, то любит он его, потому что не он утверждается в другом человеке как в своём объекте, а объект как другой человек утверждает себя в нём, — или:
«Человек ли владеет любовью или, напротив, любовь человеком? Когда любовь побуждает человека даже с радостью идти на смерть ради любимого существа, то что это — его индивидуальная сила или, скорее, сила любви?»62Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 32.
Подобный образ мысли виднелся в рассуждениях Гольбаха:
«Человеку свойственно любить себя, стремиться к самосохранению и стараться сделать своё существование счастливым»63П. А. Гольбах. Система природы // Избранные произведения: в 2-х томах : [пер. с фр.] / Под общ. ред. Х. Н. Момджяна. — М. : Соцэкгиз, 1963. — Т. 1. — С. 313. — (Серия: «Философское наследие»)..
Субъект и для Фейербаха, во всяком случае, в 1840-х годах, — человек в себе, а не для себя, то есть не объективированное Я, которое должно выражать себя, когда оно создаёт, например, скульптуру; не «…субъект-объект, т. е. одновременно Я и Ты», который «…способен разобщить в собственном существе объект от субъекта, поскольку он объективирует свою самость»64Деборин А. М. Людвиг Фейербах // Под знаменем марксизма. — 1922. — № 11–12. — С. 17..
Нет, согласно Фейербаху, при создании скульптуры не человек определяет себя в ней, а она определяет его в его умении создавать скульптуру, а через это умение — в его умениях целеполагать, творить, эстетически наслаждаться прекрасным для него; так сущность человека раскрывается не человеком, пусть и с помощью его желания; «…самая человеческая деятельность берётся не как предметная деятельность»65Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1974. — Т. 3. — С. 1..
Получается, с одной стороны, по мысли Фейербаха 1840-х годов, сущность человека предопределена: он от природы стремится делать то, что свойственно его натуре, по своей воле стремится к счастью; с другой — сущность человека разворачивается не его волей, а его объектом:
«Человек самого себя познаёт из объекта; сознание объекта есть самосознание человека»66Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 34..
Объекты же не могут быть одинаковыми: мир бесконечен в своём многообразии — тогда и сущность человека определяется не от природы, а тем, что́ в ней объективируется, то есть исходя из того, в каких условиях существует человек, чем он ведом и что его увлекает:
«Какой бы объект мы ни познавали, мы познаём в нём нашу сущность; что бы мы ни осуществляли, мы в этом проявляем самих себя»67Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 35..
Раз человек проявляет себя в чём бы то ни было, то и сущность его многообразна; он не должен всегда стремиться к собственному счастью, словно он проявляет себя лишь в одном.
Фейербах 1840-х годов не заметил этого противоречия. Почему так вышло, если рассудить, исходя из образа его мысли?
Для Фейербаха сущность человека открывалась к самой себе через объект умозрительно, «…в форме объекта, или в форме созерцания»68Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1974. — Т. 3. — С. 1., а не с помощью другого реального предмета или явления, человека или коллектива людей.
Если же рассуждать о человеке, рассматривая его отвлечённо, то нечто абстрактное, через что он рассматривается, а у Фейербаха это — объект человека, будет необходимо определять понятие человека. Иначе не получится, ведь нет ничего, кроме одного абстрактного [объекта], чем можно было бы рассмотреть человека, чтобы определить, или конкретизировать, его.
«”Поставленный на голову человек”, это — гегелевская терминология в применении к Фейербаху»69Энгельс Ф. Карл Грюн «О Гёте с человеческой точки зрения» // Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве: сб. ст. / Под общ. ред. М. А. Лифшица. — М. ; Л. : Искусство, 1938. — С. 300., — писал Фридрих Энгельс в одной из рецензий, и не был прав Николай Гаврилович, считавший, что благодаря Фейербаху немецкая философия «…достигла той окончательной ясности, полноты и последовательности, которой недоставало в системе Гегеля»70Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 180..
Ранний Чернышевский умел видеть отвлечённость рассуждений, и странно, что он не увидел её в выводах Фейербаха 1840-х годов.
Чернышевский писал в 1846 году двоюродному брату Саше, обучая его логике:
«Всякий человек есть некоторый человек. Но у некоторого человека на носу три бородавки, а на левом глазу бельмо. Следовательно, у всякого человека (ведь всякий человек есть некоторый человек) на носу три бородавки, а на левом глазу бельмо. Тут, должно быть, что-нибудь да не так»71Чернышевский Н. Г. Письмо родным от 16 августа 1846 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 41..
Неясно, почему Чернышевский, утверждавший в 1857 году, что всякий человек склонен к добру, то есть добрый, не составил силлогизма, где вместо «трёх бородавок на носу» и «бельма на левом глазу» стояло бы положение, что человек добрый от природы, и не заключил, что есть «что-нибудь да не так» в этом силлогизме.
Раннему Чернышевскому казалось странным признавать, что у всякого человека на носу три бородавки, но ему не казалась странной идея, что всякий человек склонен к добру. Оно и понятно, ибо в «Сущности христианства» (1841 г.) сказано:
«Сознание — это самоосуществление, самоутверждение, любовь к себе самому, наслаждение собственным совершенством. Сознание есть отличительный признак совершенного существа [или, что то же самое, согласно Фейербаху, признак человеческого рода. — А. П.]»72Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 35..
Фейербах 1840-х годов рассматривал человека абстрактным, потому что в своих изысканиях:
- Он исходил из понятий Я и Ты, ведь он утверждал, что Я определяется другим Я, то есть Ты, что один человек немыслим без другого человека; эта мысль на первый взгляд была разумной, но в итоге, следуя ей, Фейербах ограничивал и выхолащивал понятие человека абстрактными понятиями Я и Ты;
- Фейербах пытался мыслительно и диалектически переходить из понятия Я в понятие Ты через посредство категории абстрактного объекта; в результате она начала «сама» диалектически переходить из понятия Я в понятие Ты, подобно тому, как у Гегеля понятия «…брались как реальные сущности, которые двигались и развивались»73Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 306..
Так материалистические, казалось бы, рассуждения Фейербаха превращались в идеалистические; его «…мысли овладевали предметом, превращая его в своё содержание»74Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 287..
Даже если в исследованиях Фейербаха 1840-х годов объектом человека выступал другой человек, то это не меняло сути дела, потому что абстрактным человеком другой человек определялся им менее содержательно, чем объектом как не-человеком.
Чистое Я определялось Фейербахом чистым Ты, поэтому Я растворялось в Ты, как и наоборот.
Недаром Энгельс писал, что «…эти выражения получили у Фейербаха своё таинственно-философское значение»75Энгельс Ф. Карл Грюн «О Гёте с человеческой точки зрения» // Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве: сб. ст. / Под общ. ред. М. А. Лифшица. — М. ; Л. : Искусство, 1938. — С. 302.; тогда как абстрактным объектом в его логические цепочки привносилось хотя бы малейшее качественно новое содержание.
В «Очерках гоголевского периода литературы» (1855 г.) Николай Гаврилович говорил, что благодаря Фейербаху немецкая философия совершила переворот в науке:
«…[Немецкая философия. — А. П.] в первый раз достигнув положительных [в философском значении этого слова. — А. П.] решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности»76Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 179..
С одной стороны, Николай Гаврилович был прав, с другой — неправ, ведь схоластическая оболочка немецкой философии оставалась и от неё не помогали избавиться даже «общая теория естествоведения и антропология».
Фейербаху 1840-х годов в своих размышлениях, полагал Карл Маркс, стоило идти от некоторого реального человека, например мужчины А, к другому реальному человеку, например женщины Б, которые вдвоём состояли в реальных отношениях с другими людьми, образуя в этих реальных отношениями с другими целое — общество.77В «Немецкой идеологии» (1846 г.), например, Маркс так определял общество: «Социальная сила, то есть умноженная производительная сила, возникающая благодаря обусловленной разделением труда совместной деятельности различных индивидов…» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1974. — Т. 3. — С. 33.).
Так же Фридрих Энгельс критиковал немецкого позитивиста Евгения Дюринга, который в своём этическом учении не мог избавиться от «двух достославных мужей», благодаря которым он разрешал любые вопросы человеческой жизни «аксиоматически»78Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1974. — Т. 20. — С. 99..
Строить рассуждения, как Фейербах и Дюринг, непродуктивно. Невозможно познавать сущность человека, если сперва не исходить из непосредственного знания о реальных мужчинах и женщинах, то есть из показаний органов чувств. Только благодаря этим показаниям человек может описывать внешние формы и связи явления, изучаемого им, чтобы потом — последовательно и глубже — проникнуть в его «…внутренние связи и опосредствования»79Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 303., или разглядеть за некоторыми мужчинами и женщинами общество.
Антонович похожим образом критиковал схоластических мыслителей в статье «Два типа современных философов» (1861 г.):
«Всё это показывает, что их воззрения на человека неестественны, что они рассматривают не живого человека, а только своё искусственное отвлечённое понятие о человеке»80Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 15..
«”Человек есть то, что он ест”, то есть потребляет, — говорит Фейербах»81Деборин А. М. Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. — С. 230.. Чернышевский соглашался с ним в 1858 году в письме Добролюбову:
«…мы берём на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами… Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с неё»82Чернышевский Н. Г. Письмо Н. А. Добролюбову от 11 августа 1858 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 359..
Но ведь «…человек есть то, что он производит, как бы говорит Маркс»83Деборин А. М. Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. — С. 230–231., поэтому если человек желает быть ангелом или Христом, то при должных умениях и возможностях он станет одним из них — в том смысле этого выражения, что для человека, сознающего мир и производящего из него уже свою реальность, потенциально нет ничего невозможного.
Осознав это, Фейербах 1840-х годов и Чернышевский, который определял сущность человека своими понятиями о нём, не ошибались бы, что натура человека разворачивается его объектом, и видели бы, что его натура разворачивается им в реальном объекте с помощью других реальных людей, объединённых в коллектив.
Чернышевский в статье «Возвышенное и комическое» (1855 г.) говорил:
«Видя великого человека, я испытываю то же самое, что испытываю при мысли, что у меня, мелкого и бедного человека, есть брат, знатный и богатый человек. С одной стороны, лёгкая досада и зависть: зачем я не такой же? С другой — гораздо сильнейшее чувство самодовольства: блеск знатности и богатства моего брата отражается и на мне; из-за него почитают и меня другие, через него я возвышаюсь и в собственных глазах»84Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 174..
Вряд ли каждый человек, как и некогда — Чернышевский, «с лёгкой завистью» смотрит на богатого человека и одновременно за счёт него возвеличивается в собственных глазах.
Для Чернышевского было так — во всяком случае, в процитированной только что статье, — потому что он вслед за Фейербахом 1840-х годов определял сущность человека предметом или явлением, воздействующим на него, то есть его объектом, который виделся именно Николаю Гавриловичу, а не являлся им на деле.
Либо так для Чернышевского, однако, не было, и здесь он просто восхищался личностями, которые заслуживают называться великими, что говорит о неаккуратности формулировки его мысли.
Поскольку в философских воззрениях Фейербаха 1840-х годов господствовала категория абстрактного объекта, позднее, в 1860-е годы, в его этике понятия не выстраивались в систему.
В 1869 году Фейербах писал:
«Добро — то, что соответствует человеческому стремлению к счастью; зло — то, что ему заведомо противоречит»85Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 623..
Выходит, есть нечто, что заведомо противоречит стремлению к счастью человека, — зло. Если продолжить мысль Фейербаха: есть нечто, что заведомо не противоречит стремлению человека к счастью, — добро. Спрашивается: согласно Фейербаху, добро предопределяется человеку от природы подобно злу?
Вряд ли может быть зло как нечто, заведомо противоречащее стремлению человека к счастью, так же как и добро как нечто, заведомо не противоречащее ему, поскольку, по словам Фейербаха 1866 года, добро и зло — относительные понятия, возникающие из отношений Я и Ты. Но в этике Фейербаха 1860-х годов всё равно возникали положения, которые не выводились из отношений Я и Ты.
Столкнулся Фейербах с задачей: надо было определить, чтó для людей зло, а чтó представляет для них добро. Людей, как и ситуаций, много; одни называют добром то, что не называют добром другие. Чтобы разобраться в многообразии форм добра и зла, Фейербаху потребовалось отыскать общее основание, критерий, по которому определялось бы добро и зло.
Этим основанием для Фейербаха стало стремление человека к счастью, ведь умозрительно нет такого человека, который не стремился бы к счастью.
Что есть человек? Его объект как его разворачивающаяся сущность, которая неисчерпаема, а значит, если ею определять добро и зло, то следует рассматривать их относительно чего-то, конкретно, тогда и критерий в виде стремления человека к счастью перестаёт быть универсальным.
В результате Фейербах 1860-х годов считал, что добро и зло предстают по-разному, меняясь под воздействием единства Я и Ты, а значит, Фейербах не мыслил этические понятия предзаданными сознанию человека.
При этом он не считал, если судить по его сочинениям 1840-х годов, что Я и Ты меняются и определяются многообразием объектов, потому что сущности Я и Ты одинаковы; будучи одинаковыми, они определяют, чтó для Я и Ты представляет добро, а чтó — зло, чтó приносит им счастье, а чтó — нет; значит, Фейербах в то же время мыслил понятия этики данными, «врождёнными»; это объясняет, почему в его фразе о добре и зле, процитированной двумя абзацами выше, есть слово «заведомо».
Чернышевский в статье о «Губернских очерках» (1857 г.), где считал человека добрым от природы, склонным к любви и правде, не противоречил идеям Фейербаха, даже когда тот в старости внешне рассуждал иначе, утверждая относительность понятий добра и зла.
Оговоркой, что человек добрый, только когда он свободен и поступает вольно, а злой — когда его вынуждают или побуждают таким быть, Чернышевский согласился с мыслью Фейербаха 1869 года, что человек страдает, когда его сущность развёртывается его объектом вопреки его стремлениям или когда его стремления насильно обращаются к объекту, который противоречит ему своей сущностью.
Соглашаясь с этим, Чернышевский полагал, что в мире имеются предметы или явления, которые заведомо не противоречат стремлению человека к своему счастью, — как и поздний Фейербах, который в 1869 году утверждал, что есть некоторый предмет или явление, которое заведомо противоречит стремлению человека к собственному счастью, которое вынуждает или побуждает его страдать86Например, согласно Фейербаху, смерть заведомо противоречит стремлению любого живого существа к собственному счастью, потому что «бытие есть совершенство, счастье, блаженство»; смерть прерывает бытие, а значит, и счастье (См., например: Фейербах Л. Сущность христианства / Под. ред. В. И. Козерука. — М. : Мысль, 1965. — С. 161–163, 235.). Человек, понимая или чувствуя, что он смертен, страдает при жизни, потому что пытается спастись от смерти — хотя это не единственная причина его страданий..
Например, в статье «Возвышенное и комическое» (1855 г.) Чернышевский, с одной стороны, говорил, что «…простолюдин и член высших классов общества понимают жизнь и счастие жизни неодинаково», а с другой — что, как и для низших, «Идеал жизни для высших классов — жизнь в цвете здоровья»87Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 145.. Здоровье, для кого бы оно ни было, не противоречит его стремлению к счастью.
Каждый здоровый человек, согласно раннему Чернышевскому, счастливый или, по крайней мере, может стать счастливым.
В таком случае, по мысли Чернышевского, в мире есть предметы и явления, которые ещё до рождения человека способны сделать, когда он родится и будет жить, его счастливым, а именно здоровье — вероятно, физическое здоровье прежде всего.
Спорить с этим, на первый взгляд, трудно, но настаивать, что для каждого человека счастье или элемент счастья есть здоровье — значит предопределять, как Фейербах — добро и зло, то, что́ составляет счастье человека, или: абстрактно определять его сущность и стремления его воли. Это и делал Чернышевский, признавая здоровье счастьем жизни всякого человека.
Взглянем, допускал ли позднее Чернышевский, определяя сущность человека, его право решать при жизни, чтó для него счастье и к чему ему стремиться.
Природа человека в понимании Чернышевского. 1860 год
В статье «Антропологический принцип в философии», которая вышла через три года после статьи о «Губернских очерках», то есть в 1860 году, Чернышевский утверждал кроме свойственной человеку эгоистичности:
«…всё разнообразие явлений в сфере человеческих побуждений к действованию88Действование — философская категория, которую разрабатывал Гегель; её значение он объяснял, например, в «Феноменологии духа» (1807 г.):
«Действование есть именно только чистый процесс перевода из формы ещё не проявившегося в форму проявившегося бытия [процесс того, как непроявившееся, но проявляющееся бытие переходит в своё существование, то есть становится проявившимся. — А. П.]; <…> Индивид… не может знать, что́ он есть, пока он действованием не претворил себя в действительность» (Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть 1. Феноменология духа // Сочинения. Том IV / Пер. Г. Шпета ; ред. М. Иткина — М. ; Л. : Соцэкгиз, 1959. — С. 212.).
Чернышевский, используя в этом рассуждении категорию действования Гегеля, вероятно, подразумевал, что всякое побуждение человека исходит из натуры человека, которая и побуждает его совершать действия, то есть утверждать себя в реальности, из непроявленности переходить в проявленность, существовать., как и во всей человеческой жизни, происходит из одной и той же натуры, по одному и тому же закону»89Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 283..
Чернышевский отвергал дуализм человека и писал, что философия видит в натуре человека то, что видят в ней естественные науки — хотя бы медицина, физиология, химия, — а именно только материальные черты. Натура человека же, исходя из достижений естественных наук и философии, следующей им, не делится на дух и тело, ибо человек материален.
Чернышевский доказывал, что сущность человека монистическая90Из философской энциклопедии в пяти томах: «Монизм (от греч. μόνος — один, единственный). В истории филос. мировоззрений — истолкование мира в целом и объяснение всего многообразия его явлений с помощью единой субстанции, из к-рой выводится и к-рой замыкается вся система миропонимания, так что она является одновременно и началом и концом мировоззренч. построения, его исходным пунктом и его целью. Под М. понимается также логич. воззрение, согласно к-рому любое цельное и последоват. теоретич. построение возможно лишь на базе одного единственного исходного основоположения (постулата), проведённого через всю цепь науч. рассуждения и, соответственно, убеждение в том, что в основе каждой логически стройной и систематически развёрнутой науч. концепции лежит один и только один фундаментальный принцип, из к-рого выведены все остальные теоретич. положения этой концепции» (Давыдов Ю. Н. Монизм // Философская энциклопедия: в 5-ти томах. — М. : Сов. энциклопедия, 1960–1970. — Т. 3. — С. 489.). и натуральная, то есть самодостаточная в своей материальности, теорией, которая называется «теорией отрицательных выводов»91Лифшиц М. А. Философские взгляды Чернышевского // Литературный критик. — 1939. — № 10–11. — С. 49..
Чернышевский спросил, знает ли читатель, когда читает текст, что в его комнате нет льва. Льва в комнате читателя не оказалось. Не оказалось его потому, что тогда:
- Читатель бы увидел и услышал его;
- Лев бы набросился на читателя и, вероятно, съел его; льва не было видно и слышно, на читателя лев не обрушился.
Отсюда и заключил Чернышевский, что в комнате читателя могло оказаться что угодно, пусть маленькое насекомое, но не лев, иначе бы он проявился. Читатель может предположить, чтó в его комнате есть, но при этом может быть уверен, чего в его комнате нет. Насекомое может быть, но льва нет.
Так же с человеческой натурой: будь у неё нематериальные свойства, человек знал бы о них.
Чернышевский привёл несколько доводов в пользу того, почему человек не знает о своих нематериальных свойствах.
Например, как рассказывал Чернышевский, в Петербург приезжал фокусник по фамилии Юм, который «наделал шуму». Если бы он и правда умел предсказывать будущее, он сделался бы, допустим, дипломатическим советником при дворе и рассказывал, что произойдёт в таких-то случаях:
«…например, он сказал бы Рехбергу в прошлом марте, что если австрийцы начнут войну, то они будут побиты при Палестро, Мадженте и Сольферино и потеряют Ломбардию»92Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 241..
Юм не устроился советником при дворе и как-либо ещё не пользовался своим талантом — во всяком случае, так Николай Гаврилович говорил в статье.
В результате Чернышевский предположил, согласно теории отрицательных выводов: Юм удивлял людей фокусами и мог делать что угодно ещё, нам неизвестное, но будущее он предсказывать не умел.
Так Чернышевский доказывал материальность натуры человека. Это и есть «антропологический принцип в философии».
Хотя если бы у Юма было, например, три бородавки на носу и он не умел предсказывать будущее, то это не означало бы, вопреки выводам Чернышевского, что все люди — с тремя бородавками на носу и среди них не нашлось бы одного человека, который умел бы предсказывать будущее; чтобы это проверить, Николаю Гавриловичу потребовалось бы изучить внешность и способности всех людей без исключения — и с тремя бородавками, и без них на носу.
Отвлечённость рассуждений Чернышевского подметил Виктор Аскоченский — историк, окончивший Киевскую духовную семинарию, который издавал в Петербурге журнал «Домашняя беседа». В 1862 году он в пяти частях опубликовал статью «Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека», где критиковал «Антропологический принцип…» (1860 г.).
Литературный критик Аким Волынский в книге «Русские критики» (1896 г.) не стал обозревать статью Аскоченского, написав, что он прошёл «…мимо этой статьи по чувству исторического беспристрастия, не позволяющего привлекать к серьёзным делам голоса людей, отдавших себя на служение ханжеству и невежеству»93Волынский А. Л. Русские критики : Лит. очерки. — СПб. : тип. М. Меркушева, 1896. — С. 311..
Среди читающей и сознательной публики журнал «Домашняя беседа», который издавался с 1858 по 1877 годы, славился «обскурантизмом» и «крайней нетерпимостью ко всякому свежему начинанию», его осмеивали и не воспринимали всерьёз. Видимо, по этой причине до революции и после неё никто — насколько я знаю — не пытался вникнуть в доводы Аскоченского, которые он направил против философских положений Чернышевского.
В 31 выпуске «Домашней беседы» (26 июля 1862 г.) Аскоченский под псевдонимом «Константинопольский» писал:
«Всякий рассудительный человек поймёт, что автор [Чернышевский. — А. П.] впал в противоречие с самим собою: способ доказывать свою мысль посредством сравнений и подобий вовсе не имеет характера математически-точных приёмов в исследовании предмета; напротив, это — приём чисто-риторический, который не столько проясняет дело, сколько затемняет и запутывает его»94Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 31. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 84..
Удивительно, но, вопреки оценкам Волынского, довод Аскоченского, на мой взгляд, был здравым.
Николай Гаврилович любил пользоваться аналогиями, сравнениям, показаниями личного опыта при доказательстве тезисов, и он редко заботился о том, чтобы у них имелись крепкие логические основания.
В примере о Юме Чернышевский допустил несколько ошибок — в частности, petitio principii, то есть ошибку «предвосхищения основания» (лат.), написав, что Юм «…не устроился при дворе и потому он не умел предсказывать будущее»: он не мог знать, действительно ли Юм этого не сделал — хотя бы потому, что не был с ним знаком.
На мой взгляд, Николай Гаврилович это понимал и не претендовал на верность своих суждений о Юме. Доктор филологических наук Лев Якубинский писал:
«Явления языка должны быть классифицированы с точки зрения той цели, с какой говорящий пользуется своими языковыми представлениями в каждом данном случае…»95Цит. по: Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // О литературе : Работы разных лет / Вступ. ст. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддес. — М. : Сов. писатель, 1987. — С. 381.
Статья Чернышевского была полемической, и ею он стремился передать читателю образ своих мыслей, а не выверенные заключения о биографиях разных фокусников и потешателей публики.
Не учитывать намерений Чернышевского — «…значит игнорировать историю»96Цит. по: Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // О литературе : Работы разных лет / Вступ. ст. М. О. Чудаковой, Е. А. Тоддес. — М. : Сов. писатель, 1987. — С. 391..
Чернышевский мог чувствовать шаткость своих рассуждений о Юме, и это доказывается его статьёй «Суеверия и правила логики» (1859 г.), где он критиковал, однако, не ошибку «предвосхищения основания»:
«…видя два факта известного рода, соединёнными в одном месте, и два факта другого рода, соединёнными в другом месте, неопытные в логике умы тотчас же заключают без дальнейшего исследования, что в каждой паре фактов существует между двумя явлениями причинная связь. Если бы этот род умозаключений был пригоден для учёных изысканий, наука уже давно постигла бы все тайны природы и общественной истории. Но, к сожалению, логика заклеймила такой лёгкий способ отыскания истины знаменитой фразой cum hoc, ergo propter hoc [лат. «вместе с этим — значит вследствие этого». — А. П.] и объявила, что подобные умозаключения решительно никуда не годятся»97Чернышевский Н. Г. Суеверия и правила логики // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 701..
Стало быть, Николай Гаврилович осознавал, что его рассуждения о Юме были шаткими. Сошлюсь на слова из советского учебника по логике:
«…конечно, [такие рассуждения. — А. П.] не имеют никакого основания и потому никакой доказательной силы. Хотя все явления связаны между собой и протекают не независимо друг от друга, это не значит, что всякое явление, предшествующее данному, есть его причина»98Асмус В. Ф. Логика / Под ред. А. Чудова. — М. : Госполитиздат (ОГИЗ), 1947. — С. 288..
Магистр богословия Памфил Юркевич, преподававший философию в Киевской духовной академии, тоже критиковал взгляды Чернышевского в статье «Из науки о человеческом духе» (1860 г.) — в другом серьёзном отклике на «Антропологический принцип…»
О статье Юркевича хорошо отозвались «Русский Вестник», «Отечественные записки» и позднее — Аким Волынский.
Михаил Катков, владелец «Вестника», писал в 1860 году в статье «Старые боги и новые боги»:
«Нет худа без добра: спасибо шарлатанству по крайней мере за то, что оно послужило поводом к появлению этого превосходного философского труда. Статья г. Юркевича не просто отрицание или обличение; но исполнена положительного интереса, и редко случалось нам читать по-русски о философских предметах что-нибудь в такой степени зрелое»99Катков М. Н. Старые боги и новые боги // Русский Вестник. — М. : тип. Каткова и Ко, 1861. — Т. 31. — Февраль. — С. 902..
Через год, в августе 1861 года, в «Отечественных записках» появилось несколько статей, которые изобличали Чернышевского и направление его мысли. Среди множества полемических фраз затерялся отзыв на сочинение Юркевича:
«Статья г. Чернышевского вызвала ответ г. Юркевича… такой ответ, который поставил г. Юркевича сразу на первое место между всеми, кто когда-либо писал у нас о философии. <…> Знание систем философских, полное усвоение предмета и самостоятельное к нему отношение — вот заслуги г. Юркевича»100Новая манера полемики. <…> Нечто о направлении «Отеч. Записок», не согласном с «Современником», о противоречиях и проч. // Отечественные записки. — Т. 137. / Ред.-изд. А. А. Краевский и С. С. Дудышкин. — СПб. : тип. И. И. Глазунова и Ко, 1861. — С. 41–42..
Волынский спустя почти пятьдесят лет в книге «Русские критики» (1896 г.) говорил:
«Юркевич с поразительным искусством обнаруживает ошибки Чернышевского, разбирает на каждом шагу его логику тонкими соображениями, имеющими высокое философское достоинство. Блестящий диалектик, прошедший строгую школу критического идеализма, он вскрывает недостатки рассматриваемой статьи с авторитетною уверенностью, пред которою совершенно пасует яркий полемический талант Чернышевского»101Волынский А. Л. Русские критики : Лит. очерки. — СПб. : тип. М. Меркушева, 1896. — С. 281..
Эти отзывы — судим не только по приведённым цитатам — были малосодержательными, изобиловали фразами «по поводу» и логическими ошибками, названными argumentum ad hominem (лат. «доводом о человеке»). Недаром возмущался советский литературовед Григорий Берлинер:
«Словно сговорившись, противники Чернышевского упрекали его в невежестве. Если бы деятельность Чернышевского не была так хорошо известна нам, то, прочитав эти статьи, мы могли бы подумать, что не было в русской литературе такого невежественного писателя, как Чернышевский; мы могли бы подумать, что он был профаном решительно во всех областях и ни о чём не имел никакого понятия»102Берлинер Г. О. Н. Г. Чернышевский и его литературные враги / Под ред. Л. Б. Каменева. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 124..
Посмотрим, может быть, статья Юркевича и правда заслуживала хвалебных отзывов Каткова и его товарищей. Чернышевский — во всяком случае, если верить его словам — не стал знакомиться с этой критикой, сказав в «Полемических красотах» (1861 г.):
«Я не знаю, каких лет г. Юркевич; если он уже не молодой человек, заботиться о нём поздно. Но если он ещё молод, я с удовольствием предлагаю ему тот небольшой запас книг, каким располагаю»103Чернышевский Н. Г. Полемические красоты // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 725..
Юркевич критиковал онтологические взгляды Чернышевского, как мне представляется, неловко, потому что он путался в своих рассуждениях и опирался на посылки, подразумевая их несомненными, но на деле их самих требовалось доказать.
Например, Юркевич утверждал:
«Сколько бы мы ни толковали о единстве человеческого организма, всегда мы будет познавать человеческое существо двояко: внешними чувствами — тело и его органы и внутренним чувством — душевные явления»104Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 114..
Юркевич, толком не доказывая этого тезиса, всё же продолжал «толковать» с Чернышевским о единстве человеческого организма ещё бог знает сколько страниц в своей статье, что было странно, ведь проблему определения «натуры» человека он преподносил решённой:
«Этот мнимый закон природы [о появлении и определении «души» из тела. — А. П.], на котором, как мы сказали, по преимуществу опирается теория материализма, разъяснён с математической отчётливостью философией Канта»105Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 128..
Аскоченский и без ссылок на классическую немецкую философию, опираясь лишь на свой жизненный опыт, говорил:
«…есть такие представления, возникающие в нас помимо всякого ощущения, этого и сам автор [Чернышевский. — А. П.] не вправе отвергать. Таковы вообще все математические, нравственные, религиозные представления»106Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 31. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 90..
Николай Гаврилович, однако, в «Антропологическом принципе…» (1860 г.) это отвергал:
«Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые соответствуют потребности мыслящего организма»107Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 277.,
— как и позднее, в 1878 году в письме сыновьям:
«Чего мы не видим, того мы не видим. Это так. Но вовсе не о том речь в той чепухе [«залетевшей в головы простофиль-натуралистов из идеалистических систем философии». — А. П.]. В той чепухе говорится, будто мы видим не то, что мы видим, или будто нам кажется, что мы видим то, чего мы не видим. Это чистейший вздор, когда мы в добром умственном здоровье и когда глаза у нас здоровы. Здоровый умственно человек видит здоровыми глазами те самые предметы, какие видит…»108Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 6 апреля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 275.
— как и в статье «Характер человеческого знания» (1885 г.):
«Познавательные силы человека ограничены, как и все его силы. В этом смысле слова характер нашего знания обусловливается характером наших познавательных сил. Будь органы наших чувств более восприимчивы и наш разум более силен, мы знали бы больше, нежели знаем теперь»109Чернышевский Н. Г. Характер человеческого знания // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 10. — С. 731..
Юркевич и Аскоченский не говорили ничего нового: по их мнению, натура человека подразделяется на дух, который, согласно Юркевичу, человек познаёт с помощью психологии, осознавая себя, и тело, которое он познаёт через посредство других наук:
«Психология не может получать своего материала ниоткуда, кроме внутреннего опыта. Ощущения или представления, чувствования и стремления суть такой материал, которого вы нигде не отыщете во внешнем опыте и, следовательно, ни в какой области естествознания»110Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 110..
По этой причине естествознанием, «материалистическими» науками — их методы защищал Чернышевский — не познать «душу» человека.
Для Фейербаха, ученика Гегеля и учителя Николая Гавриловича, всякий предмет, в том числе «организм»111Фейербах утверждал, что человек обладает одной натурой, материальной, что тело и дух есть один и тот же предмет, в своих ипостасях называемый по-разному, но в единстве называемый «организмом» (Введение в философию : Учебник для вузов: в 2-х частях / Фролов И. Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др. — М. : Политиздат, 1989. — Ч. 1. — С. 190.)., был не простым предметом, а вещью, обладающей единством своей сущности как основания и существования, то есть тем, что, с одной стороны, обусловлено иным, а с другой стороны — самодостаточно в себе.
Человек как организм, стало быть, определяется предметами и явлениями, находящимися вне его, но как таковой он, определяемый извне, определяется собой.112См.: Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 328.
Человек как организм, согласно Фейербаху, материальный, объективно существующий, потому что определяется Ты, узнаёт себя лишь в ощущении другого, который, коли он узнаёт себя в нём, тоже существует независимо от него, тоже есть «предмет».
Фейербах писал в 1843 году:
«…только там, где я из Я превращаюсь в Ты, только там, где я — нечто страдательное, возникает представление активности, вне меня находящейся, — иначе говоря, только там дано нечто объективное»113Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 183..
Ощущение для Фейербаха — побуждаемое извне чувство, становящееся представлением, рассудком и разумом. Ощущения себя, или Я, нет без ощущения другого человека, то есть Ты; ощущений, в свою очередь, нет без материи, воплощающейся в предметах и явлениях.
В «Основных положениях…» (1841 г.) Фейербах выразил свою мысль так:
«Не будь материи, не было бы для разума ни побуждения, ни материала для мышления, не было бы содержания. От материи нельзя отречься, не отрекаясь от разума; её нельзя признать, не признавая разума»114Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 157..
В этой мысли Фейербах сводил разум к материи, вернее — к ощущениям, потому что только благодаря ощущениям человек знает о материи и может понимать её разумом.
Фейербах не признавал самостоятельности разума и предостерегал нас от мысли, что в нём есть что-то, чего нет в ощущениях. Здесь он следовал размышлению Ламетри:
«В мозгу нет ничего, кроме материи: ничего, кроме протяжённого, в его чувствующей части, как это доказано… Если всё может быть объяснено тем, что открывает в мозгу анатомия и физиология, к чему мне создавать фиктивную субстанцию?»115Цит. по: Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 215–216.
В другом месте «Основных положений…» (1841 г.) Фейербах говорил:
«…в ощущениях, даже повседневных, скрыты глубочайшие и величайшие истины. <…> Существует лишь то, наличие чего доставляет тебе радость, отсутствие чего доставляет тебе скорбь. Различие между… бытием и небытием есть радостное и в той же степени скорбное различие»116Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 185..
В этом аспекте образ мыслей Чернышевского никогда не отличался от образа мыслей Фейербаха: они оба определяли человека материальным существом, разделяя взгляды не только Ламетри, но и, например, Руссо 1754 года:
«О человек! Из какой бы ты ни был страны, каковы бы ни были твои взгляды, слушай, — вот твоя история, такая, какой, полагаю, я прочёл её не в книгах, написанных тебе подобными, которые лживы, а в природе, которая никогда не лжёт. Всё, что от неё, — истинно; ложно будет лишь то, что я, не желая того, прибавлю от себя»117Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства // Трактаты [пер.] / Под. ред В. С. Алексеева-Попова, Ю. М. Лотмана и др. ; Коммент. В. С. Алексеева-Попова и Л. В. Борщевской. — М. : Наука, 1969. — С. 46. — (Серия: «Литературные памятники»)..
Чернышевский продолжал: материальной натуре человека присущи потребности пить, есть, иные естественные потребности, «…истинно безграничные потребности, потому что нет человека, не признающего силы их»118Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 19..
У человека ещё есть нравственные потребности, говорил Николай Гаврилович, например потребность любить; а нравственная потребность не равняется естественной, отличается от неё, — откуда она взялась в естественном человеке?
Что у естественного существа имеются нравственные потребности, которые Чернышевский называл «явлениями нравственного порядка», не противоречит естественности этого существа, ведь:
- Каждый предмет многообразен в своих качествах, а значит, у естественного существа могут быть неестественные на первый взгляд качества.
Хотя вернее было бы сказать, как мне кажется, что предмет обладает одним качеством, то есть самим собой, ведь качество — это «…самое вещь, её единство, целостность, устойчивая форма её внутренних связей»119Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 329., тогда как свойств у предмета может быть много; - Если же часть существа материальна, то оно материально, ибо особенности целого распространяются на части и целое частей, а особенности частей, если продолжить мысль Чернышевского, распространяются на целое и другие его части:
«Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом объяснённых наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые ещё не вполне объяснены: если бы в этих необъяснённых частях и явлениях было что-нибудь иное кроме того, что найдено в объяснённых частях, тогда и объяснённые части имели бы не такой характер, какой имеют»120Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 249.; - Нравственные потребности возникают у человека потому, что он, определяемый ими, не существует неизменно: он постоянно подвергается «химической реакции», взаимодействует с другими существами, в нашем случае — с другими людьми.
Чернышевский не раскрывал понятия «химической реакции» применительно к нравственности человека; неясно, как он её выводил из его натуры, которую он считал «естественной»; известно лишь, что в этом аспекте он придерживался положения о переходе количественных изменений предмета или явления в его качественные изменения:
«В этих трёх состояниях одно и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что одно качество принимает форму трёх разных качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие»121Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 242..
Позиция Антоновича, если опираться на его статью «Два типа современных философов» (1861 г.), о том, что такое внутренний мир человека, в началах сходится с позицией Чернышевского 1860 года из «Антропологического принципа…».
Есть предметы, есть органы чувств человека, которые раздражаются, когда на них воздействуют эти предметы, — так у человека возникают ощущения. Органы чувств беспрерывно получают ощущения, ими образуются единичные представления, которые, в свою очередь, «по чисто механической и физиологической необходимости» превращаются в «полные и ясные представления». Но они ещё не сознание, потому что:
«…Мы не можем отнести их к сознанию, так же точно не можем отнести и к внешним явлениям в собственном смысле: они составляют именно посредство между ними, какое, — мы не знаем, но во всяком случае бессознательное, хотя и граничащее с сознанием»122Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 68–69..
Дальше начинается «химический процесс», в ходе которого полные и ясные представления становятся сознанием.
Чернышевский не определял сознание и даже не упоминал его в статьях — хотя и не отрицал важности «человеческого духа», как, например, в рецензии 1856 года на первые творения Льва Толстого:
«…знание человеческого сердца — основная сила его [Льва Николаевича. — А. П.] таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силён и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством»123Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 427..
Антонович же рассуждал о так называемой «психофизической проблеме»124Арсланов В. Г. Отвергнутое начало. Философские основания русского искусствознания XIX века // Русское искусствознание. Дворянская культура. Идея мимезиса: в 2-х томах / Изд. подг. при участии А. П. Ботвина. — СПб. : Владимир Даль, 2024. — Т. 1. — С. 603., то есть о том, как из откликов нерва в мозгу человека, из материального, образуется его сознание, идеальное.
Согласно Антоновичу, коли сознание берётся, если обратиться к его основаниям, из ощущений, то «…между явлениями сознания и явлениями внешних предметов нет непроходимой и непреодолимой преграды [ср. с явлениями “естественного” и “нравственного порядка” Чернышевского — А. П.]»125Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 44.; сознание, образующееся полными и ясными представлениями, есть внутренний мир человека.
Этот мир, продолжал Антонович, «лишь до некоторой степени» самостоятелен:
«[Мир есть. — А. П.] …не что иное, как явления внешнего мира, перешедшие в систему нашего организма, в нашу голову и, если хотите, в наш внутренний психический мир»126Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 44..
Отсюда вывод: «То, что есть в нас, — это не наше, а всё произошло к нам извне, от внешних явлений…»127Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 41. Ничего человеческого в человеке нет, хотя неясно, почему так, если внутренний мир человека, согласно Антоновичу, хотя и «относительно», но всё же самостоятелен.
Антонович запутался в своих рассуждениях о сознании.
Если явления внешнего мира, взятые как ясные и полные представления, образуют сознание, то зачем называть их сознанием и признавать, пусть и с оговоркой, «внутренний психический мир» человека? Антонович писал, что если о чём-то говорится, значит, на то есть объективные причины, значит, это «что-то» в том или ином виде существует:
«Да что же это за сущность [кантовская вещь в себе. — А. П.] такая, которой никто не знает и не может знать? А вы сами как же узнали об её существовании; может, её вовсе и нет, и это просто только мечта вашего собственного воображения?»128Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 39..
Видимо, по мнению Антоновича, сознание, рассудок, душа — «абсолютные привидения», как он выражался, выдуманные идеалистическими философами; так он и отверг право человека самостоятельно создавать свой внутренний мир. Оно и понятно, ведь, по его мнению, в современных ему философских системах, верных больше прошлых философских систем, «…мир с его явлениями, в том числе и человеком, рассматриваются, как они есть и как мы видим их на самом деле»129Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 24..
Антонович шёл дальше и, отрицая внутренний мир человека, вернее — называя его внешним миром, перенесённым внутрь человека, не считал нужным его изучать:
«Да и что такое само наше сознание? Это процесс сложный, предмет тёмный и неопределённый, далеко не разъяснённый ни опытной психологией, ни физиологией, чтобы можно было ссылаться на него как на непоколебимое основание»130Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 69..
Поскольку ссылаться на него как на «непоколебимое основание» нельзя и оно не доказывается опытной психологией и другими науками, но возникает из ощущений и благодаря им, то «…при общем отождествлении различных явлений сознание — такая вещь, что ею не стоит слишком затрудняться».
Так просто Антонович и решал вопрос, что такое сознание.
Неясно, разделял ли Чернышевский, полностью или частично, позицию Антоновича, но, думается, кое в каких взглядах на «явления нравственного порядка» они сходились.
Юркевич критиковал взгляд Чернышевского, что по мере своего развития человек, подвергаясь «химической реакции», развиваясь в своих количественных признаках, обогащается новыми качествами, в том числе сознанием. Юркевич спрашивал:
«Положим, что вы послышали учение физики о зависимости объёма тела от его температуры о том, что с изменением его температуры необходимо изменяется и его объём; что сказали бы об вас, если бы вы превратили это отношение необходимой связи в отношение тождества и стали рассуждать: температура тела превращается в объём тела, объём тела есть не что иное, как его температура?»131Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 116..
Здесь Юркевич противопоставлял количественный признак — температуру — качественному — объёму тела; отсюда он заключал, что количество, по крайней мере, применительно к людям неспособно переходить в новое качество. Так Юркевич доказывал незыблемость грани между духом и телом человека:
«Легко сказать: количественное развитие переходит в качественное, как будто количество имеет само в себе возможность и потребность превращаться в качество»132Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 125..
Если ранее Юркевич утверждал, что «психология не может получать своего материала ниоткуда, кроме внутреннего опыта», то здесь он, вопреки своему желанию, проводя аналогии с объёмом тела и его температурой, обосновал не чужеродность духа и тела, а их «отношение необходимой связи»; поскольку отношение их связи необходимо, то оно не настолько различно; следовательно, границы, мысленно проводимые между телом и духом человека, не столь непреодолимы, хотя Юркевич уверял читателя в обратном.
Юркевич ещё и превратно понял диалектику Гегеля.
Чернышевский не писал, что «количество имеет само в себе возможность и потребность превращаться в качество»; он говорил, что количественное различие, а не «количество», переходит в качественное различие, а не в «качество», что разница в количественных признаках предмета или явления по мере его развития становится качественной разницей между ними, прошлыми и настоящими.
Количество, конечно, не имеет «возможности перейти в качество», так как количество — философская категория, обозначающая взгляд на явление, которое взято с одной его стороны, а не само явление; количественных признаков объекта нет без его качественных признаков, как и наоборот, но не самих по себе, а в объекте, который мысленно схватывается человеком в определённом виде.
В 1878 году в письме сыновьям Чернышевский говорил:
«Разные качества [в т. ч. в своих количественных проявлениях. — А. П.] вещества, это — всё одно и то же неизменное вещество, рассматриваемое с разных точек зрения»133Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 9 февраля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 120..
Следует различать, как выражался Гегель, сферу бытия и сферу сущности предмета; в бытии явления, обозначаемые философскими категориями, переходят друг в друга, то есть «количество» переходит в «качество», как и наоборот; а в сфере сущности — каждая сторона явления, выражаемая философскими категориями, не даётся без своих противоположностей, то есть не представляется как нечто нецелое, или частичное.134Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 323.
Опровергая выводы Чернышевского, основанные на естествознании, что материальные проявления человека оторваны от его идеальных проявлений, доказывая, например, нематериальность мыслей, Юркевич ссылался, однако, на «материалистические» доводы:
«Кажется, ясно, что мысль не имеет пространственного протяжения, ни пространственного движения, не имеет фигуры, цвета, звука, запаха, вкуса, не имеет ни тяжести, ни температуры; итак, физиолог, не может наблюдать её ни одним из своих телесных чувств. Только внутренне, только в непосредственном самовоззрении он знает себя как существо мыслящее, чувствующее, стремящееся»135Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 9 февраля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 115..
Коли физиолог, по словам Юркевича, не наблюдает мысли, не воспринимает её органами чувств, то она безусловно идеальна, то есть в своих рассуждениях Юркевич критиковал материализм тем, что материалисты признавали; переходил от мыслимой нематериальности мышления к его реальной идеальности, совершая своеобразный скачок веры — веры в то, что мысли идеальны, потому что они нематериальны.
Это нисколько не доказывало его идею о том, что дух и тело разъединены; зато так Юркевич доказал привлекательность метода «отрицательных выводов», ибо сам им воспользовался, хотя на страницах ранее сомневался в его верности:
«…веровать можно во всё, ещё легче можно говорить обо всём по доброму произволу»136Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 120..
Чернышевский и Антонович, признавая то же самое, что Юркевич, а именно: мысль нельзя схватить органами чувств — опровергали непоколебимость грани между явлениями естественного и нравственного порядка. То, что мысль нельзя запечатлеть в непосредственном виде, но при этом она осознаётся материальными существами, лишь говорит, что идеальные стороны человека — «дух» — в некоторой мере самостоятельны относительно его сторон материальных — «тела».
Аскоченский в 33 выпуске «Домашней беседы» (1862 г.) другим путём решал «психофизическую проблему». Он говорил:
«Но кто не знает, не говоря о физиологах, что мозг есть масса материи, которая для собственной органической жизни нуждается в оживляющем начале? Материя без силы сама по себе мертва, как же она может мыслить? <…> Отсюда прямое заключение и к тому, что сам собою образуется человек, сам собою сложился мир. Но ведь здесь нет логики, нет основного начала в мышлении — причинности, которую однакож не пренебрегают и естественные науки»137Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 33. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 128..
Не будем опровергать мысль, идущую ещё от идеи «перводвигателя» Аристотеля; позволим это сделать самому Аскоченскому. В следующем выпуске «Домашней беседы» (1862 г.), в продолжение своей статьи, он писал:
«Мистическая теория есть теория самая старая: её выдумали ещё египтяне времён фараоновских, которые видели во всех животных достоинства человеческие, а в некоторых даже и божеские»138Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 34. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 147..
Аскоченский признавал, что знания и представления человека антропоморфические, но не распространял эту мысль на «достоинства божеские». Что ж, он воспользовался своим правом веровать во что угодно, и рациональных доводов против его веры в сверхъестественные силы в конечном итоге привести нельзя.
Скажем лишь, что причин как понятий в мире нет, что причина и следствие — это категории логического мышления, с помощью которых человек, схватывая некоторые связи между явлениями, пытается объяснить их происхождение и действие. Хотя, несомненно, в понятиях выражается логика существования мира; в них есть объективное содержание. Но видеть в мире причины и следствия лишь необходимость человеческого мышления.
Природе не нужна поддержка понятий, чтобы существовать.139Ещё античные философы обсуждали, телеологичен ли мир. Откроем лекции по истории древней философии доктора философских наук А. Н. Чанышева:
«Аристотель упрекает атомистов в том, что “вопрос… о движении, откуда оно и как оно присуще существующим вещам, и они, подобно прочим, легкомысленно оставили без внимания”. Но если учесть, что ответить на вопрос о причине движения атомов — значит указать особую нематериальную причину этого движения (у Аристотеля, как мы увидим, такой причиной был бог), то “легкомыслие” атомистов мнимое. Движение присуще атомам от природы. Оно вечно. Левкипп и Демокрит расширили закон сохранения бытия элеатов до закона сохранения бытия и движения. Они оставили в стороне вопрос об особой причине движения именно потому, что движение — вечное свойство вечных атомов. Аристотель в своей “Физике” сообщает, что Демокрит не считает нужным искать начала вечного» (Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии : Учебн. пособ. для филос. фак. и отд-ний ун-тов / Науч. ред.: В. В. Соколов. — М. : Высш. школа, 1981. — С. 184–185.).
Чернышевский писал в статье «Суеверия и правила логики» (1859 г.):
«…логика велит нам испытать, нет ли положительных указаний, что факт, происхождение которого мы объясняем [например, происхождение жизни, человека, мира. — А. П.], возникает исключительно от этих причин [например, от бога или другой мистической силы. — А. П.], совершенно независимо от обстоятельства, которому наше суеверие приписывало влияние на него [например, от стремления человека видеть у реальных явлений человеческие свойства. — А. П.]. Для этого логика велит внимательнее обозреть природу и историю, чтобы видеть, не повторяется ли этот факт в полной своей силе и там, где не существует обстоятельства, которое суеверным образом ставится в связь с ним»140Чернышевский Н. Г. Суеверия и правила логики // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 687..
Так, я предполагаю, Чернышевский мог бы ответить на довод Аскоченского, что «материя для собственной органической жизни нуждается в оживляющем начале».
Юркевич и особенно Аскоченский написали статьи, жалкие в своих онтологических выводах.
Некоторые литераторы, правда, хвалили статью Юркевича, на мой взгляд, по двум причинам: они либо разделяли религиозные и консервативные взгляды Юркевича, либо поддерживали направление его критики — стремление опровергнуть выводы из статьи Чернышевского, которая своими идеями увлекала молодёжь.
Григорий Берлинер предполагал:
«То обстоятельство, что объектом атаки оказались философские воззрения “Современника”, было чисто случайным. Вовсе необязательно было полемизировать только против философских высказываний Чернышевского, — важно было нападать на него по любому поводу»141Берлинер Г. О. Н. Г. Чернышевский и его литературные враги / Под ред. Л. Б. Каменева. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 110..
Предположение Берлинера, мне кажется, было основательным, ведь оно подтверждалось свидетельствами людей, которые застали полемику, развернувшуюся против Чернышевского.
Например, Фёдор Достоевский в статье «По поводу элегической заметки “Русского Вестника”», которая вышла в десятом номере журнала «Время» (1861 г.), писал:
«И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал; что в нём ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде “Полемических красот”… Господи! Подымается скрежет зубовный, раздаётся элегический вой…»142Достоевский Ф. М. По поводу элегической заметки «Русского Вестника» // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 19. — С. 177.
С Достоевским соглашался в 1896 году Аким Волынский:
«Возникшая полемика между журналами оставила в тени причину спора и наполнилась объяснениями взаимно-обиженных и расцарапанных авторских самолюбий. Серьёзная тема совершенно исчезла из оборота. На сцене — иступлённые крики и свалка людей, неизвестно откуда и зачем несущихся. Чернышевский остался героем события, не получившим в этой борьбе такой раны, которая хотя бы на время заставила его смутиться и поколебаться»143Волынский А. Л. Русские критики : Лит. очерки. — СПб : тип. М. Меркушева, 1896. — С. 312–313..
Прогрессивные деятели слова презрительно относились к рецензии Юркевича. Литературный критик Дмитрий Писарев рассуждал в статье «Московские мыслители» (1862 г.):
«Для меня статья г. Юркевича написана на неизвестном языке, и притом на таком языке, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, что этот язык, сухой и бесплодный, ничем не вознаградит меня за те усилия, которые я употреблю на его усвоение. <…> Вокруг нас кипит живая жизнь; что ни шаг, то предмет для размышления, и притом такой предмет, который непременно надо обсудить, чтобы иметь возможность идти дальше… успевай только пробиваться и разрушать действительные препятствия; а тут нам предлагают углубиться в самих себя, заняться диалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизм и зарыться по уши в какую-нибудь отвлечённую систему, которая не успела даже выработать себе ясного языка»144Писарев Д. И. Московские мыслители // Полное собрание сочинений: в 12-ти томах / Редкол.: Ф. Ф. Кузнецов и др. — М. : Наука, 2000–2013. — Т. 4. — С. 34..
Чернышевский следовал веяниям жизни и, признавая нравственные потребности человека из его естественных потребностей, преодолевал в этом аспекте созерцательность философских воззрений Фейербаха.
Фейербах полагал, что нравственных потребностей у человека нет, ибо это противоречит его сущности. Определяя природу человека, Фейербах 1840-х и 1860-х годов ограничивал его сущность физиологией и не выводил из неё нефизиологических отношений: если человек — мужчина или женщина, как и считал Фейербах, то единственное отношение человека с человеком есть отношение продолжения рода145Богуславский В. М. Тезисы Маркса о Фейербахе. — М. : Знание, 1960. — С. 19.. Остальные отношения между людьми — проявления этого полового отношения, которые немыслимы без чувств. Даже любовь всего лишь «…чувственная и страстная воля человека»146Фейербах Л. О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 453. (из сочинения 1866 г.).
У Фейербаха в 1846 году сущности мужчины и женщины в общем сходились: познавать, хотеть, любить; в частном, в том, что один — мужчина, а другая — женщина, наоборот, расходились: «Бытие — это женщина, мышление — мужчина»147Фейербах Л. Фрагменты к характеристике моей философской биографии // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 252., то есть предназначение женщины — продолжать человеческое бытие, а мужчины — осмысливать и развивать его; они «…могут быть выведены из своей ушной мочки»148Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве: сб. ст. / Под общ. ред. М. А. Лифшица. — М. ; Л. : Искусство, 1938. — С. 398., хотя и тот и другая существуют и мыслят.
Сущностной разницы между конкретными мужчинами и женщинами нет. Природа предопределила обоим полам, любой женщине и любому мужчине, определённые развёртывания человеческой сущности, проявляющейся в двух полах и, стало быть, в определённых стремлениях их воли. Сущность человека, женщины или мужчины, пытается выйти из себя, хоть отталкиваясь от себя как объекта, хоть стремясь волевым стремлением к своему объекту, но выйти из себя ей неподвластно.
«Сущность человека заключается лишь в общности, в единстве человека с человеком»149См.: Плеханов Г. В. Основные вопросы марксизма. — 3-е изд. — М. ; Л. : Гос. изд., 1929. — С. 29., — заключил Фейербах в 1869 году, — в единстве Я и Ты, одного абстрактного мужчины и другой абстрактной женщины; их единство предопределено.
Фейербах, отталкиваясь от этой абстрактной общности человека с человеком, продолжал:
«Только тот разрез в теле, который отделил мужчину от женщины… проникает во всё и самое интимное существо человека»150Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 617..
И дальше:
«Больше того, половое отношение можно прямо характеризовать как основное нравственное отношение… основу морали»151Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 617..
Чем определяется «общность, единство человека с человеком»? Согласно Фейербаху 1860-х годов — природной сутью Я, которое есть Я только благодаря Ты, которое ощущается Я и потому позволяет Я быть из себя, то есть из Ты.
В отличие от Фейербаха, Маркс и Энгельс считали, что общность человека с человеком определяется общественными отношениями, в которые необходимо вступают люди, или единством производственных и непроизводственных отношений — способом производства; при этом здесь под «производством» стоит иметь в виду производство не в узком, а в широком смысле этого слова, то есть материальную и идеальную (духовную) жизнь человечества.
Энгельс в 1886 году подметил:
«…[Фейербах. — А. П.] по форме реалистичен, за точку отправления он берёт человека; но о мире, в котором живёт этот человек, у него нет и речи… Этот человек появился на свет не из чрева матери; он, как бабочка из куколки, вылетел из бога монотеистических религий [Согласно Фейербаху, в образе христианского бога объективировалась идеализированная сущность человека. — А. П.]»152Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1974. — Т. 21. — С. 295..
В «Критических замечаниях к “Основным положениям философии будущего”» (1849 г.) Фейербах возражал:
«…[“Я”, — написал бы здесь Фейербах. — А. П.] выставлял чувства в качестве критерия, то есть признака и основы, для человека в действительности. Разумеется, не животные, а человеческие чувства; не чувства для себя, не чувства без головы, без разума и мышления, ибо мышление требуется даже для чистого зрения»153Фейербах Л. Критические замечания к «Основным положениям философии будущего» // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 270..
В другом месте Фейербах называл человека общественным существом:
«Там, где вне Я нет никакого Ты, нет другого человека, там нет и речи о морали; только общественный человек является человеком»154Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 617..
Таких оговорок в трудах Фейербаха было много, но, в сущности, его взгляды оставались прежними.
Фейербах, когда критиковал идеи Гегеля, не покидал границ его философской системы.
Если Гегель строил систему философских категорий начиная с чистых и тождественных категорий бытия и небытия, которые в одной из метаморфоз Абсолютного духа становились человеком и обществом, то Фейербах выстраивал систему философских категорий начиная с категории объекта человека или, противореча себе, сводя понятие человека к категории объекта с помощью стремления его воли. Но и те и другие категории были чистыми настолько же, насколько были чистыми основополагающие категории философской системы Гегеля.
Так у Фейербаха вместо Абсолютного духа возникал Абсолютный объект человека или Абсолютный человек, волей стремящийся к своему объекту.
Гегель шёл от абстрактного к конкретному, а Фейербах шёл от иного абстрактного к иному конкретному. Гегель — от абстрактного понятия к конкретному, вернее — к единичному, человеку на пути проявления Абсолютного духа, Фейербах — от абстрактного объекта человека к единичному человеку или от абстрактного человека к его единичному объекту. Отчего внешне Фейербах мыслил материалистически, а по сути — идеалистически, о чём говорил Энгельс.
Выводить систему философских категорий, возможно, стоит иначе: от показаний чувств или системы понятий, которые основываются на этих показаниях, к системе абстрактных понятий, или — от абстрактных понятий, в которых «…содержатся сущности определяемого, но не в развитом ещё виде, не в конкретизированной ещё форме»155Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 298., то есть отражены реальные, пусть и простые, отношения мира, к конкретным понятиям или к системе конкретных понятий.
Тогда, при должной последовательности, получится, что человек будет изучать себя, изучая других людей и осознавая себя реальным человеком в реальных обстоятельствах.
Энгельс в переписке с Марксом в 1844 году говорил:
«…мы должны исходить из эмпиризма и материализма, если хотим, чтобы наши идеи и… наш “человек” были чем-то реальным; мы должны всеобщее выводить из единичного, а не из самого себя или из ничего, как Гегель»156Энгельс Ф. Письмо К. Марксу от 19 ноября 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1955–1981. — Т. 27. — С. 12..
Концентрированно Маркс выразил ту же мысль в шестом тезисе «Тезисов о Фейербахе» (1845 г.):
«Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений»157Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1955–1981. — Т. 3. — С. 3..
Добавлю, что сущность человека не есть совокупность общественных отношений и не исчерпывается ей, потому что мало определить, разграничив, совокупность общественных отношений; следует определить, как они взаимодействуют и составляют целое, то есть общество, которое одновременно определяет сущность человека, взятого отдельно ото всех, и само определяется им.
Фейербах не принимал, даже если видел, в обществе способы производства, классы, совместную деятельность людей и не вводил эти понятия в своё философское учение.
Ограничивая человека его самим, сводя его к Я, хотя и определяя его через Ты, Фейербах отстаивал позиции натурализма, который Владимир Ленин называл «неточным, слабым описанием материализма»158Ленин В. И. Конспект книги Фейербаха «Лекции о сущности религии» // Философские тетради / Под ред. В. В. Адоратского, В. Г. Сорина. — М. : Парт. изд-во, 1936. — С. 73.. Вот почему Фейербаху «…часто приходится апеллировать к природе там, где требуется анализ общественных отношений и специфического способа производства, определяющего эти отношения»159Деборин А. М. Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. — С. 232..
Чернышевский, в отличие от Фейербаха, изучал политэкономию, использовал в статьях термины «класс», «пролетариатство», «капитал»; и говорил в 1861 году:
«…не нужно никакой особенной изобретательности, чтобы увидеть важного этого предмета [политической экономии. — А. П.]: она давно поясняется всеми экономистами»160Чернышевский Н. Г. Политико-экономические письма к президенту Американских Соединённых Штатов Г. К. Кэре // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 919..
Николай Гаврилович рассматривал общество шире абстрактного единства Я и Ты, мужчины и женщины, и считал, что в общественных науках есть аксиомы, подобные аксиомам математики. Например, в 1857 году Чернышевский не сомневался, что «производство усиливается приложением капитала»161Чернышевский Н. Г. Исследования о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских учреждениях России. Барона Августа Гакстгаузена // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 4. — С. 307. или что «при различных обстоятельствах экономические условия бывают очень различны»162Чернышевский Н. Г. Исследования о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских учреждениях России. Барона Августа Гакстгаузена // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 4. — С. 345..
Отсюда понятно, почему Чернышевский, признавая нравственные потребности человека, признавал, возможно нечётко, в размышлениях, что человек — нечто большее, чем физиологическое существо, живущее физиологическими чувствами.
Добролюбов, тоже расходясь здесь с Фейербахом, говорил в статье «Органическое развитие человека…» (1858 г.):
«Нам кажутся смешны и жалки невежественные претензии грубого материализма, который унижает высокое значение духовной стороны человека, стараясь доказать, будто душа человека состоит из какой-то тончайшей материи»163Добролюбов Н. А. Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 1. — С. 231..
Этот образ мысли подтверждался тем, чтó Чернышевский писал сыновьям в 1876 году:
«Я не натуралист. Но с молодости твёрдо держусь того образа мыслей, которого стараются держаться корифеи естествознания, — большинство из них не очень-то успешно, хоть усердно стараются»164Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 21 июля 1876 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 667..
Сходились Чернышевский и Фейербах в том, как понимать отношение человека — всецело физиологического или физиологического в одном, нравственного — в другом, — к своему существованию; в том, чтó для человека ценнее всего. И тот и другой полагали, что для него жизнь есть высшее благо.
Чернышевский писал в 1855 году:
«[Жизнь есть. — А. П.] …самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете»165Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 10..
Так считал в 1869 году и Фейербах:
«То, что живёт, — любит, хотя бы только себя и свою жизнь; хочет жить, потому что оно живёт; хочет быть, потому что оно есть»166Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 578..
Фейербах ограничивал жизнь человека его физиологией, а у Чернышевского она обогащалась «явлениями нравственного порядка».
Например, в 1854 году Чернышевский писал:
«Живое, рассматриваемое только со стороны его полезности для человека, перестаёт быть живым для нас; потому оно перестаёт быть и прекрасным в наших глазах»167Чернышевский Н. Г. Критические взгляд на современные эстетические понятия // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 131..
И дальше:
«Слава богу, чудный будет урожай; чудно поправятся мужички от нынешней жатвы! Боже мой, сколько человеческого счастья, сколько радости людям зреет на этом поле! <…> А что же тут [в этом рассуждении. — А. П.] выражалось? Разве не “пошлое” чувство собственника? Нет, воля ваша, даже корыстное чувство владельца возвышается до трогательной поэзии, когда в нём выражается не гадкое скряжничество, а порыв к жизни, радость об обеспечении своего существования»168Чернышевский Н. Г. Критические взгляд на современные эстетические понятия // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 155..
Следует ли из естественной натуры человека с его нравственными потребностями, которую признал Чернышевский в статье 1860 года, что человек добр от природы, как писал Чернышевский в 1857 году в статье о «Губернских очерках»?
Нет, не следует, отвечал Чернышевский 1860 года, ведь:
«…добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим. Человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни хвалить за другое; всё зависит от обстоятельств, отношений, учреждений»169Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 264..
При этом в своём рассуждении Чернышевский заведомо полагал, что человек любит приятное и не любит неприятного, это «не подлежит сомнению».
Добролюбов в 1858 году, словно следуя будущим рассуждениям Чернышевского, считал так же:
«…как всё в мире, человек стремится только к тому, что соответствует его натуре в каком-нибудь отношении и отвращается от того, что ей противно»170Добролюбов Н. А. Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 1. — С. 259..
Герой «Записок из подполья» (1864 г.) недаром спрашивал, вероятно, у Чернышевского и Добролюбова: «Выгода! Что такое выгода? Да и берёте ли вы на себя совершенно точно определить, в чём именно человеческая выгода состоит?»171Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 110.. Для них, однако, не было проблемой это определить.
В рассуждениях Чернышевского и частично — Добролюбова проглядывал образ мысли, с одной стороны, Гельвеция, а с другой — Фейербаха.
В трактате «Об уме» (1758 г.) Гельвеций, которого Чернышевский упоминал в статьях172Откроем статью «Капитал и труд» (1860 г.):
«Адаму Смиту тем легче было не предвидеть логических последствий найденного им принципа [о том, что труд “должен быть единственным владельцем производимых ценностей”. — А. П.], что в те времена у сословия, которому принадлежит труд, не было, ни в Англии, ни во Франции, никаких стремлений к самостоятельному историческому действованию и оно было в тесном союзе с средним сословием, с владельцами оборотного капитала, пользовавшимися помощью простолюдинов для своей борьбы с высшим сословием. Это были времена, когда Вольтер и Даламбер покровительствовали Жан-Жаку Руссо; когда откупщик Эльвесиус [то есть Гельвеций. — А. П.] был амфитрионом всех прогрессистов» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 38.)., писал:
«Надо знать сердце человеческое, и прежде всего знать, что люди любят только самих себя и равнодушны к другим и не рождены ни добрыми, ни злыми, а готовыми стать теми или другими…»173Гельвеций К. А. Об уме // Сочинения: в 2-х томах : [пер.] / Сост., общ. ред. Х. Н. Момджяна ; примеч. М. Н. Делограмматика. — М. : Мысль, 1973–1974. — Т. 1. — С. 315. — (Серия: «Философское наследие».).
Почему они ни добрые, ни злые, но эгоистичные, то есть любят только себя, от рождения, отвечал Фейербах.
Благодаря боли человек, согласно Фейербаху 1866 года, знает, «…чего он должен избегать, а [благодаря. — А. П.] удовольствию — чего он должен желать; стало быть, к… сущности его относится любовь к тому, что… является причиной приятных ощущений, и… ненависть к причине ощущений неприятных»174Фейербах Л. О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 463–464.. Боль есть физическая мерка нравственных желаний и страданий — так у Фейербаха вновь нефизиологическое в человеке обосновывалось его физиологией.
Чернышевский, однако, не доверился бы в полной мере этим выводам Фейербаха.
Вопреки образу мыслей Фейербаха, Николай Гаврилович говорил не только о «приятном ощущении», но и о приятной мысли или о приятном нравственном чувстве как о том, что определяет для человека приятное. Отсюда, вероятно, произошла мысль Алексея Волгина, протагониста романа Чернышевского «Пролог» (1864 г.):
«Нельзя приневоливать людей быть счастливыми по-нашему, потому что у разных людей разные характеры: для одних, например, счастье в любви; для других любовь — приятное чувство, но есть вещи дороже её»175Чернышевский Н. Г. Пролог / Ред. и вступ. статья Н. Ф. Бельчикова. — М. : Гослитиздат, 1936. — С. 80..
Рассуждения Чернышевского строились на посыле, выводящем из естественной натуры человека с его нравственными потребностями то, что он любит поступать приятно для себя, то есть в своих интересах, а значит, его натура эгоистична.
В итоге человеческая натура, согласно Чернышевскому 1860 года, не определяла, что такое добро, чтó — зло, но определяла, эгоистичен ли человек от своего рождения — да, эгоистичен.
Это были непоследовательные рассуждения. Если Чернышевский 1860 года преодолел своё прежнее представление, что сущности человека свойственны склонности к добру и правде, если он преодолел размышления Фейербаха 1860-х годов, что зло — нечто, заведомо противоречащее человеческому стремлению к счастью, то ему, как мне представляется, надо было преодолеть и мнение, что человек необходимо стремится к своему счастью, или, если выразиться словами Чернышевского, всегда стремится к приятному для себя.
Как минимум это соответствовало бы взглядам Николая Гавриловича о «характере известного к характеру неизвестного»: если человеку несвойственно одно, то несвойственно и любое другое подобное.
Теперь, в 1860 году, Чернышевский предполагал не нечто, заведомо противоречащее стремлению человека к своему счастью, как в статье о «Губернских очерках» (1857 г.), а данность этого стремления в человеке.
Позиция Чернышевского 1857 года о натуре человека была последовательнее его позиции 1860 года, потому что в 1857 году наряду с эгоистичностью, свойственной натуре человека, он признавал доброту.
Однако в 1860 году во взглядах о натуре человека Чернышевский был ближе к объективной истине, так как начинал исторически, в развитии, смотреть на добро и зло, видеть за ними общественные отношения:
«Очень давно было замечено, что различные люди в одном обществе называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже противоположные. Если, например, кто-нибудь отказывает своё наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным. Такая же разница между понятиями о добре в разных обществах и в разные эпохи в одном обществе»176Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 286..
Справляясь с отвлечённостью одних установок Фейербаха, Чернышевский продолжал разделять другие его установки. Делал он это потому, что в теоретических выкладках, как и Фейербах, не исходил из образа человека в его реальности.
Чернышевский был созерцательным, то есть склонным к созерцанию, мыслителем, пусть и не таким созерцательным, как Фейербах. Им обоим для стройности теоретических построений требовались чистые, непротиворечивые посылки, и такие они находили. Хотя это не соответствовало «знаменитому диалектическому методу мышления» Гегеля, который хвалил Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855 г.), когда рассуждал о философских взглядах Белинского.
Диалектика как метод мышления, признавал Чернышевский, диктует:
«…мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд»177Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 207..
Николай Гаврилович, правда, успокоился на своём выводе, что стремление к собственному счастью предзадано человеку. Видимо, поторопился он, сказав на той же странице, что «Гегель ныне уже принадлежит истории».
Чернышевский со своих позиций осмысливал философскую систему Фейербаха, но всё же оставался в её границах.
Стремление к личному счастью предопределено человеку! Этот человек, мне кажется, порождает абстрактную мораль. Фейербах не согласился бы с моим выводом, потому что — писал он в трактате 1869 года — «…собственное счастье, конечно, не есть цель и конец морали, но оно есть её фундамент, предпосылка»178Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 623.; поэтому негоже сводить этические взгляды Фейербаха к положению о том, что человек всегда стремится к своему счастью.
Посмотрим, правда ли фейербаховская этика порождает многообразие следствий, вытекающих из её основания.
Воле человека, натуре которого присуще стремиться к хотению, любви и познанию, или воле, которая разворачивается этой сущностью, то есть объектом человека, говорил Фейербах в 1869 году, характерно стремление к собственному счастью, ибо «…это первоначальное стремление всего того, что живёт и любит, что существует и хочет существовать»179Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 579..
Каждый человек, как и любое существо, стремится к своему счастью, к пользе для себя. Но если для своего счастья человек жертвует счастьем других, «…тумаки его братьев и щипки его сестёр учат его должным нравам».
Если тумаки даются не раз, но ничему не учат, человек изгоняется из семьи братьев и сестёр и становится несчастным, ибо «…его собственное счастье теснейшим образом переплетается со счастьем его близких»180Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 619.. Жить несчастным человек не сможет, ведь он необходимо будет стремиться к счастью, из-за чего вынужденно вернётся к счастью в коллективе.
Кажется, согласно Фейербаху, если не мешать счастью других, следить за своими желаниями и за последствиями их осуществления, то стать счастливым несложно: следует всего лишь быть хорошим для себя, как и для других, то есть быть нравственным.
Мыслить так — значит полагать, будто людям ничего не требуется для счастья, кроме себя, и что бороться за счастье не нужно.
В жизни мало кто удовлетворяет свои потребности в полной мере, не чувствует нужды, страданий, горя — словом, несчастий. Чтобы не чувствовать их, необходимы любимый человек, крепкое здоровье, увлечения и работа, деньги в конце концов — да что только ни нужно для счастья человека!
Фейербах будто чувствовал умозрительность своего взгляда и говорил, например:
«…Там, где начинается нужда, бедность, где стремление к счастью ограничивается только удовлетворением потребности питания, только утолением голода, там умолкает Дельфийский оракул и категорический императив. Нужда закона не знает»181Цит. по: Деборин А. М. Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение / Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. — С. 218–219..
Но нет: в трактате, откуда взят этот фрагмент, Фейербах, ненадолго покинув царство чистой мысли, вернулся в него. В конце трактата он сказал:
«То, что я причиняю другому, то самое вместо него я причиняю себе; то, что я не признавал в согласии и в мире с ним и с самим собою, а именно, что существует только общее счастье, — то самое я признаю теперь обратным образом, в разладе и во вражде с самим собою»182Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 629..
Фейербах, говоря, что в мучениях совести каждый человек «обнаруживает для себя вообще совесть», уповал на родство стремлений людей к собственному счастью и неизбежность мук совести у злодеев.
Фейербах вольно или невольно следовал позиции Дидро, который писал в 1774 году:
«Угнетатель без угрызений совести представляется мне столь же невероятным, как и угнетённый без чувства протеста»183Дидро Д. Последовательное опровержение книги Гельвеция «О человеке» // Сочинения: в 2-х томах : [пер. с фр.] / Сост., ред., вступит, статья и примеч. В. Н. Кузнецова. — М. : Мысль, 1986. — Т. 2. — С. 445. — (Серия: «Философское наследие»)..
Это идеалистические рассуждения: зачастую злодеев не волнуют муки их жертв. Если смотреть шире — общество разделено на враждующие классы и является таким уже тысячи лет, словно у него как целого и нет стремления к всеобщему счастью.
Так почему Фейербаху нельзя было, как он выражался, «схватить и поймать совесть» в показаниях органов чувств, чтобы сделать более-менее реалистические выводы? Например, вывод, что мораль такого-то общества меняется из века в век и люди стремятся к счастью по-разному, в зависимости от своих потребностей и желаний.
Этика Фейербаха являлась абстрактной. Стремление людей к своему и всеобщему счастью для него были непреложными законами, покуда у него абстрактно существовал человек в единстве с другим человеком. Так и подтверждалась мысль Энгельса, что «…насчёт морали Фейербах может сообщить нам лишь нечто чрезвычайно тощее»184Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1955–1981. — Т. 21. — С. 297..
Видимо, словами Энгельса можно сказать и об этических взглядах Чернышевского.
Доктор философских наук Марк Розенталь так передавал идею Чернышевского, что добро — «очень полезная польза»:
«Орды Чингисхана покорили целый ряд народов, исходя из того, что монголам это принесёт много добра. Но они глубоко заблуждались, ибо никогда ещё приобретение добра путём причинения зла другим не дало в конечном счёте положительных результатов»185Розенталь М. М. Философские взгляды Н. Г. Чернышевского. — М. : Госполитиздат, 1948. — С. 257..
Чернышевский, когда говорил, что добро есть польза, богатая результатами для тех, кто родственен деятелю добра или крепко связан с ним, не оговаривался, что важнее для человека то добро, которое относится к человечеству; Николай Гаврилович написал об этом единожды — в «Антропологическом принципе…» (1860 г.):
«Общечеловеческий интерес стоит выше выгод отдельной нации»186Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 286.,
— следуя мысли Фейербаха из «Сущности христианства» (1841 г.):
«Но если моё представление соответствует мерилу рода и, следовательно, абсолютно, то различие между бытием в себе и бытием для меня отпадает. Мерило рода есть абсолютное мерило, закон и критерий человека»187Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 46..
Неясно, что значит в толковании Розенталя — которое, конечно, подтверждается словами Николая Гавриловича, например: «Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались сами»188Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 287. — или: «Я считаю результаты насилия вредными, всегда для всех вредными»189Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и Ю. П. Пыпиным от 17 июня 1886 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 592., — что значит выражение «в конечном счёте», и неясно, как этот счёт измерить.
Видимо, здесь имелось в виду, что преступник — пусть даже в лице нации — наживался на людях, умер, а потом, в конечном счёте, воздалось его здравствующим родственникам. Но преступник-то пожил и нарадовался жизни, значит, совесть не мучила его, пока он жил, или мучила, но не так сильно, чтобы прекращать его жизнь; значит, для него «приобретение добра путём зла» давало положительные результаты, хотя, по мысли Чернышевского, должно было происходить иначе.
Так получилось бы, потому что у преступников есть своя мораль, которая определяется их образом жизни: совершать злодеяния для них нормально, и они невольно находят оправдания своим действиям, чтобы жить.
Николай Гаврилович же не был прав, когда в «Антропологическом принципе…» (1860 г.) надеялся на непременное воздаяние за зло.
Пятью годами ранее, в статье «Возвышенное и комическое» (1855 г.), Чернышевский, однако, признавал, что преступникам жизнь не всегда отплачивает несчастием, и тем самым смотрел на мир в его горькой правде:
«Как бы ни было, но мы уже знаем, что на земле порок внешним образом наказывается не всегда, добродетель внешним образом награждается не всегда, что порочный может умереть спокойно в богатстве, что добродетельный может всю жизнь страдать и умереть страдая»190Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 182..
Природа человека и принцип «разумного эгоизма». 1888 год
В авторецензии на диссертацию (1888 г.), спустя 31 год после публикации «”Губернских очерков” Щедрина», вернувшись в Астрахань из ссылки, Чернышевский туманно говорил, словно вопреки рассуждениям Фейербаха, что «Жизнь решает, какова его [человека. — А. П.] натура, она решает, каковы его стремления и желания»191Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 102.. Значит, жизнь решает и то, какова мораль человека?
Непонятно, что в этой фразе подразумевается под «жизнью» и «натурой».
Под словом «жизнь» может, как и прежде, предполагаться природа как реальный мир, под «натурой» — человек с естественными и нравственными потребностями, воле которого свойственно стремление к собственному счастью. Если это так, позиция Чернышевского 1888 года, поступают ли люди эгоистично, осталась прежней: да, люди всегда поступают эгоистично, ибо того требует их природа.
А может, в этих словах скрывается другой смысл, например тот, что «жизнь» — это общественные отношения, в которых формируется человек, а «натура» — личность, образуемая этими отношениями; тогда мысль Чернышевского другая: нет, люди поступают эгоистично не всегда, а только сегодня, в классовых отношениях, живя в которых в 1888 году Чернышевский и написал авторецензию на диссертацию.
Узнать, что поздний Чернышевский подразумевал под словами «жизнь» и «натура», нельзя, а других его произведений того времени, где обсуждалась бы природа человека, нет. Потому невозможно сказать точно, что Чернышевский в конце жизни понимал под природой человека.
Одно из двух: или человек эгоистичен по природе, от рождения в какое угодно время, или человек — эгоист, разумный или жалкий, иногда, от развития в некоторых условиях, «учреждениях».
Узнать, как с натурой человека соотносится эгоизм, присущ ли он его натуре или побуждается общественными отношениями, в которых он живёт, согласно позднему Чернышевскому, — узнать это, вероятно, можно, если проследить, как Чернышевский размышлял об эстетическом чувстве человека.
В молодости, когда Чернышевский писал статью «Критический взгляд на современные эстетические понятия» (1854 г.), он объяснял, что у людей разные мнения о красоте не потому, что у них разное эстетическое чувство, а потому, что они неодинаково образованы и увлечены красотой — один меньше, другой больше; эстетическое чувство у них тождественно, разно лишь то, как они осознают показания этого чувства:
«Ведь понимают же красоту природы они [простолюдин и образованный человек. — А. П.] оба… одинаково, и невозможно отыскать пейзажа, который, нравясь человеку образованному, не казался бы хорош и простому человеку. Различие между ними… в понимании человеческой красоты»192Чернышевский Н. Г. Критический взгляд на современные эстетические понятия // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 142..
Антонович, который следовал эстетической теории Чернышевского, в 1865 году выражался отчётливее:
«…эстетическое наслаждение есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая прекрасными предметами, и невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности»193Антонович М. А. Современная эстетическая теория // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 125..
Чернышевский подтвердил свою мысль в старости, в авторецензии на диссертацию (1888 г.):
«…наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти [художественные. — А. П.] качества, <…> непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека»194Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 115.,
— а не «непосредственно» от того, есть ли у них эстетическая способность: она, безусловно, есть.
И Чернышевский, и Антонович разделяли идею Фейербаха из «Сущности христианства» (1841 г.):
«Как я могу признавать достоинства хорошей картины, если душа моя эстетически извращена? Пусть я не художник и не обладаю способностью создавать прекрасные произведения, я всё-таки могу воспринимать красоту извне, если у меня есть эстетический вкус и понимание. Или хорошие качества вовсе не существуют для человека, или они понятны ему, и в таком случае в них обнаруживается для человека святость и достоинства человеческого существа»195Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 58..
Видимо, даже в преклонном возрасте Чернышевский, рассуждая о человеке, предпочитал опираться на чистые посылки196В сибирских письмах Чернышевский неоднократно упоминал «природу человека», и неясно, в переносном или в буквальном значении он использовал это словосочетание.
В одном из писем 1878 г. он, скорее всего, метафорически сказал, что у человека бывают «природные» потребности: «Говорят: “Благородные увлечения прекрасны”. — Мой милый, это лишь туманная фраза, в которой совмещены понятия несовместные. “Но Гораций Коклес защищал свою отчизну; но Курций бросился в бездну”. Да. — Но это не было “увлечение”, это была “потребность природы” [кавычки! — А. П.] этих людей. И дела их были нужны, — не им самим, а их родине» (Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. Чернышевскому от 24 апреля 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 281.).
Спустя пять лет, в письме Ольге Сократовне, он рассуждал о любви, общественном явлении, ссылаясь на законы природы: «Принимай в соображение, что вообще, если кто-нибудь любит кого-нибудь, то имеет о любимом человеке понятия более высокие, нежели имеет любимый человек сам о себе. Это закон природы; если у человека, который называет или воображает себя любящим, понятия о человеке, которого он называет или и действительно считает любимым человеком, не выше тех, какие любимый человек имеет о себе, значит, любви к нему нет в том человеке, который называет или считает себя любящим его» (Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 10 апреля 1883 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 393.).: он не отличал абстрактные возможности от реальных, каждую возможность воспринимал необходимой, а поскольку в вопросе эстетического чувства он брал эстетическое чувство как данное от рождения человеку, то в вопросе его природы Чернышевский мог так же предположить эгоистичность его, пусть и соглашаясь, что доброта или злоба — качества, приобретаемые им в обществе.
Если это так, то Чернышевский, судя по его поздним работам, отстаивал позицию, что человек эгоистичен не от развития, а от рождения, и его эгоизм определяется природой, а не отношениями общества, в которых он живёт, тогда как доброта и злоба, напротив, обретаются им во время жизни197Этот вывод подтверждается письмом 1875 года, в котором Чернышевский говорил сыну Михаилу:
«Источники, по которым пишутся исторические книги, имеют все один общий недостаток: незнакомство с законами человеческой природы; это всё похоже на разговоры профанов о медицине: кое-что справедливо, но масса суждений невежественна». И дальше: «Законы человеческой природы: ум и честность — это одно и то же; ум и доброе сердце — это одно и то же. Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему полезному для людей, если мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям» (Чернышевский Н. Г. Письмо М. Н. Чернышевскому от 25 марта 1875 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 598.).
Коли бойкость речи и характера «не ведут ни к чему полезному для людей, если…», то они могут вести к вредному для них; значит, человек, как это понимал поздний Чернышевский, может быть неумным и нечестным, а может и не быть им, то есть поздний Чернышевский считал: доброта и злоба обретаются человеком, пока он живёт..
Отсюда выходит, что мораль у Чернышевского не сильно отличалась, во всяком случае, в выводах от фейербаховской морали: руководствуясь приятными ощущениями, человек подчиняется своей натуре; не жизнь, а натура человека определяет его мораль.
Если бы Чернышевский всё же осознал общественный характер нравственности, то ему пришлось бы пересмотреть свои философские взгляды и признать, что физиологический человек с нравственными потребностями прежде всего нравственный, то есть общественный, ибо нравственности нет вне общества; ему пришлось бы признать, что человек как общественное существо основывается на физиологии, но не сводится к ней, что общество, в котором живёт этот человек, включает предыдущие формы развития материи, но является принципиально новой формой её развития.
Признав это, Чернышевский подверг бы отрицанию философское учение Фейербаха и начал бы историко-материалистически смотреть на прошлое и настоящее человека, открыл бы исторический материализм, как назвали этот взгляд на историю198Почему Чернышевский почти открыл исторический материализм, видно из его некоторых статей и переписки с сыновьями.
Так, в одной из рецензий 1861 г. он писал, что всякая политическая власть существует, покуда она поддерживается большинством населения: «…господствующая партия составляет большую половину нации, — каждая партия только тогда и достигает господства, когда привлекает на свою сторону большинство нации» (Чернышевский Н. Г. Политико-экономические письма к президенту Американских Соединённых Штатов Г. К. Кэре // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 913.).
Когда Чернышевский много лет спустя был в ссылке, он, обсуждая с сыном Михаилом европейскую историю в письме 1876 г., различал идеологию и её подоплёку, так же как делал Ф. Энгельс в работе «Крестьянская война в Германии» (1850 г.): «А крестовые походы, а религиозные междоусобия? — Считать эти факты, совершавшиеся под знамёнами церкви, делами, происходившими по религиозным мотивам, иллюзия. Эмблемы, знамёна были церковные. Мотивы были обыкновенные житейские [В следующем письме Н. Г. исправляет себя: мотивы были житейскими в основном, потому что могли быть и религиозными, но не в основном ими. — А. П.].» (Чернышевский Н. Г. Письмо М. Н. Чернышевскому от 30 ноября 1876 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 714.).
В одном из писем 1882 года Чернышевский радовался, что его сын Михаил начал увлекаться историей литературы; давая несколько советов о том, как лучше всего ей заниматься, он отметил, что литература развивается не сама по себе, а в обществе, и часто воспроизводит своими произведениями общественные веяния; не рассматривая их, не получится понять, почему литература такой-то страны такого-то периода была такой, а не другой; это историко-материалистический взгляд на историю культуры: «Об истории литературы я думаю, что это предмет очень важный. Если бы мне привелось обрабатывать её, я находил бы полезным сильнее, чем обыкновенное делают её историки, показывать зависимость литературной деятельности в каждую данную эпоху жизни данной нации от крупных фактов собственно так называемой “исторической жизни” той нации в то время» (Чернышевский Н. Г. Письмо М. Н. Чернышевскому от 2 июля 1882 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 371.).; словом — сошёлся бы во мнении с Достоевским, который устами главного героя «Зимних заметок…» (1863 г.) словно критиковал его:
«Натура даром не даётся. Всё это веками взвращено и веками воспитано»199Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 5. — С. 78..
Поздний Чернышевский, однако, скорее считал, чем не считал, что природа человека образуется «учреждениями», в которых он живёт.
Возможно, это доказывается некоторыми рассуждениями из его поздних сочинений.
В неоконченной статье «О влечении к оправданию дурных поступков» (1885–1889 гг.) Чернышевский дважды повторил мысль, что «у всех людей есть влечение оправдывать свои дурные поступки»200Чернышевский Н. Г. О влечении к оправданию дурных поступков / Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 16. — С. 528..
Кажется, здесь Чернышевский подтверждал идею, излюбленную им, что у человеческой природы есть некоторые стремления, отречься от которых человек не в состоянии. Но там же, объясняя, откуда у человека берутся скверные привычки, Чернышевский писал:
«В те эпохи, когда какая-нибудь дурная привычка господствовала в большинстве людей правящего сословия, она была выставляема этими людьми и учёными, прислужниками их, за нечто хорошее, достойное прославления. Масса населения принимала эти софистические мысли…»201Чернышевский Н. Г. О влечении к оправданию дурных поступков / Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 16. — С. 528.
Хотя до этого, состоявшись как мыслитель, Чернышевский писал:
«Дурной обычай не мешает людям вообще оставаться хорошими людьми»202Чернышевский Н. Г. Политико-экономические письма к президенту Американских Соединённых Штатов Г. К. Кэре // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 913.,
— но эта мысль не противоречила прошлой: здесь Чернышевский имел в виду, что дурной обычай не мешает оставаться хорошими не всем, а только тем людям, которые уже состоялись как хорошие, но которые по тем или иным причинам следуют дурному обычаю, умудряясь, однако, сохранять свою хорошесть.
С одной стороны, говорил Чернышевский, людям свойственно оправдывать свои дурные поступки, а с другой — их дурные поступки создаются господствующими нравами, которые в сущности определяются общественным положением и нравами «правящего сословия»; так поздний Чернышевский догадывался, что мораль образуется общественными обстоятельствами, в которых живут люди.
Достоинства человека, стало быть, и мораль, которая определяет склонности личностей как достоинства и как недостатки их, поздний Чернышевский видел изменчивыми, определяющимися «учреждениями», скорее всего, и потому, что в одном из поздних письме он намекал на это.
В 1885 году Чернышевский соглашался с рассуждениями сына Александра, который начал пробовать себя в беллетристике, но не мог зарабатывать ею кусок хлеба:
«Да, мой друг, ты совершенно справедливо говоришь, что даже и для поэтической твоей деятельности необходимо тебе приобрести сколько-нибудь удовлетворительную материальную обстановку жизни. Да, кому дурно живётся на свете, у тех страдают все умственные и нравственные силы»203Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. Чернышевскому от 15 апреля 1885 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 525..
От дурной жизни, писал Чернышевский, страдают силы человека, но из его процитированного рассуждения непонятно, предопределяются ли, по его мнению, человеческие силы или они образуются в человеке по мере его жизни; наконец, образуется ли натура человека вместе с ними.
В работе «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» (1888 г.) есть мысль, которая очевиднее, хотя и не с полной достоверностью, доказывает, что поздний Чернышевский видел изменчивость «натуры» человека:
«…при исследовании причин нищеты и её последствий, следовало бы говорить не исключительно о нерассудительности в деле размножения [то есть деторождения. — А. П.], а вообще о нерассудительности, обо всех её видах… потому что некоторые виды нерассудительности, как, например, леность, тщеславие, властолюбие, находятся в очевидной зависимости от учреждений, развиваются при дурных, ослабевают при хороших»204Чернышевский Н. Г. Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь / Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 10. — С. 741..
Когда Чернышевский отправил в 1888 году в журнал «Русская мысль» статью «Происхождение теории благотворности…», его редактор Виктор Гольцев сообщил ему, что статью опубликовать готовы, но с примечанием: критика автора (Чернышевского), подписанного как «Старый трансформатор», однобока в нападках на теорию Дарвина и Мальтуса. Не вдаваясь в подробности этих разногласий, приведу ответ Николая Гавриловича:
«Вы находите надобным сделать редакционное примечание к моей статье. Делайте. Скажу о ней несколько слов. Она лишь первая в ряду предположенных мною статей о тождестве условий материального благосостояния с требованиями разума и совести»205Чернышевский Н. Г. Письмо В. А. Гольцеву от 19 августа 1888 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 737.
— и Чернышевский больше ничего не сказал о сути цикла своих статей. Потому и сложно истолковать, что Николай Гаврилович здесь подразумевал под «тождеством условий материального благосостояния с требованиями разума и совести».
С одной стороны, здесь Чернышевский вторил Гегелю и говорил, что мышление тождественно бытию, как и бытие — мышлению; какие закономерности у одного, такие закономерности у другого; «…мышление в его имманентных определениях и истинная природа вещей суть одно и то же содержание»206Цит. по: Деборин А. М. Гегель и диалектический материализм // Философия и марксизм: сб. ст. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1930. — С. 274..
С другой стороны, из-под выражения Чернышевского проглядывала мысль, что требования разума и совести человека определяются материальными условиями, в которых он живёт; каковы условия его жизни, благосостояния, таковы и требования его разума и совести.
Если второе толкование верное, то натура человека, согласно позднему Чернышевскому, непостоянна и меняется в зависимости от обстоятельств.
Даже если в 1888 году Чернышевский признавал, что натура человека определяется окружающей его жизнью, то от этого, однако, не изменилась его этическая концепция — во всяком случае, не получится проверить, изменилась ли она от этого.
Вывод статьи: главная посылка этических взглядов Чернышевского
Чернышевский написал работы, где подробно изложил свои этические взгляды, до каторги, то есть до 1862 года, и в последующие годы подобных сочинений не было, а из имеющихся ясно: он считал, что:
- Человек эгоистичен от природы, а не от общественных отношений, поэтому «…никто не обязан делать ничего, кроме того, что ему самому будет лучше»207Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 12 октября 1862 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 458.;
- Человек добрый и злой от общественных отношений, а не от природы:
«Иван добр, а Пётр зол; но эти суждения прилагаются только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о привычке тесать доски, уметь ковать и т. д.»208Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 264.
Осмысливая этическую концепцию Чернышевского, разумнее всего считать, что она выстраивалась на посылке о предопределённой сущности человека — ни доброй, ни злой, хотя эгоистичной от природы.
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
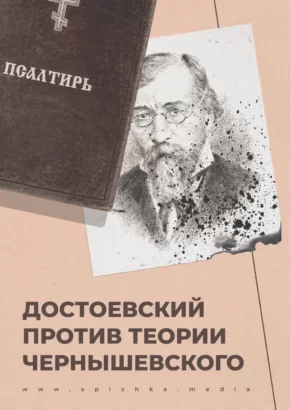 Достоевский против теории Чернышевского
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
Достоевский против теории Чернышевского
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
 Добро и зло Чернышевского
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
Добро и зло Чернышевского
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
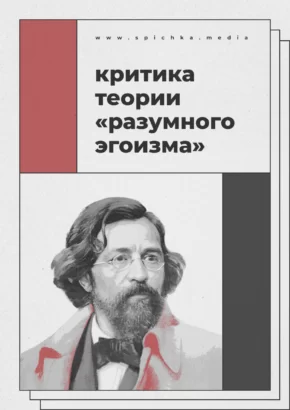 Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
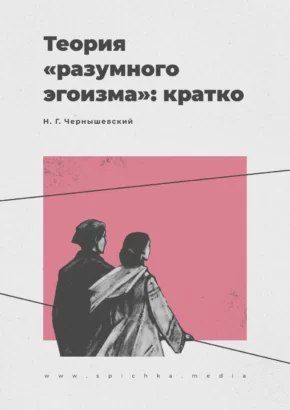 Теория «разумного эгоизма»: кратко
Как Чернышевский мог изложить, но не изложил теорию «разумного эгоизма»
Теория «разумного эгоизма»: кратко
Как Чернышевский мог изложить, но не изложил теорию «разумного эгоизма»