
Критика теории «разумного эгоизма»
Содержание
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
Чернышевский полагал, что все люди — эгоисты. Хотя он не считал эгоистом Добролюбова: «…невознаградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, народ!»1Чернышевский Н. Г. Н. А. Добролюбов // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 852.
Чернышевский в одних местах доказывал теорию «разумного эгоизма», а в других — опровергал её; сама жизнь противоречила его идеям.
В статье я критикую Чернышевского и его учителя, ищу правду в теории «разумного эгоизма» и предполагаю, чтó вынуждало Николая Гавриловича в ней ошибаться.
В статье критикуется, но почти не формулируется теория «разумного эгоизма». Я кратко сформулировал её в отдельной статье, знакомиться с которой желательно, но необязательно.
Доказательства неотделимости эгоизма от человека
Исходная посылка доказательств
Чернышевский считал, что у человека есть два рода потребностей — естественные и нравственные. Ещё Николай Гаврилович вслед за Фейербахом, своим учителем, утверждал, что человек эгоистичен от природы2Эта мысль — онтологическое основание теории «разумного эгоизма», которое я раскрыл в отдельной статье..
Согласно логике Николая Гавриловича, эгоизм человека определяется не одной естественной потребностью — например, потребностью избегать боль, как считал Фейербах. Эгоизм человека определяется и его нравственными потребностями, потому что только «…одна половина средств принадлежит этому разряду [“внешней природе“. — А. П.]»3Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 265..
Чернышевский заключал: эгоизм человека проявляется не только в том, что он старается избегать физической боли; ещё для человека жизненно необходимо, чтобы его поступки или поступки других людей соответствовали или, по крайней мере, не противоречили его убеждениям и ценностям. В статье «Антропологический принцип…» (1860 г.) Чернышевский, доказывая этот тезис, приводил несколько примеров из истории и жизни.
Три доказательства Чернышевского
Первое доказательство: самоубийство Лукреции
Первый пример Чернышевского, согласно которому жизнь вынуждает человека не поступаться своими ценностями и убеждениями, а кончать с собой, чтобы ими не поступиться, — о самоубийстве Лукреции.
В Древнем Риме, когда ещё не была установлена Римская республика, жила Лукреция, римская матрона, известная своей красотой. Её изнасиловал Секст Тарквиний, младший сын Тарквиния II Гордого, последнего царя Рима.
Лукреция впала в отчаяние и рассказала о своём несчастье мужу; он уверял её, что готов любить её и впредь, говорил ей «много успокоительных и ласковых слов». Но «ведь все эти подобные слова чистый вздор», которые свидетельствуют «о благородстве говорящего их», но нисколько не изменяют «непременных последствий дела», считал Чернышевский:
«[Муж Лукреции. — А. П.] …уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность обиднее холодности, горьче побоев и ругательств»4Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 284..
Лукреция, как рассказывал Чернышевский, посчитала, что «лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном»; это положение вредило бы и её мужу, на которого косо смотрели бы, зная, что он живёт с «нечистой» женой.
Самоубийство Лукреции, по мнению Чернышевского, печально, но «очень расчётливо», потому что было в её интересах: умертвив себя, она перестала жить очернённой и позорить своего мужа.
Так Чернышевский доказывал, что эгоизм в человеке, которого представляла Лукреция, настолько силён, что может быть сильнее его воли к жизни.
Религиозный историк Виктор Аскоченский спрашивал у читателей:
«Как он [Чернышевский. — А. П.] подведёт под эгоистическое начало тот факт, что люди скорбят и плачут о знакомых и даже о недоброжелателях своих? Как он подведёт под это начало те факты, что люди неутешно плачут о своих злейших врагах…»5Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Окончание // Домашняя беседа. — Вып. 35. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 171.
Если внять словам Аскоченского, Лукреция могла сжалиться над своим обидчиком и людьми, которые, по словам Николая Гавриловича, стали презирать её, и простить их, не покончив в результате с собой. Вопрос Аскоченского кажется здравым.
Николай Гаврилович приводил ещё несколько примеров, почему живые существа всегда руководствуются личными интересами и нравственными побуждениями.
Второе доказательство: курица и цыплята
Второй пример — о курице, которая высидела чужие яйца, но цыплят, вылупившихся из них, полюбила как своих. Почему она их полюбила, хотя яйца были не её? — спрашивал Чернышевский. А потому, что она высидела их; вложила в цыплят «часть своего нравственного существа»:
«…она любила в них результат своей заботливости, своей доброты, своего благоразумия, своей опытности в куриных делах; это — отношение чисто нравственное»6Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 281..
В цыплятах из чужих яиц курица, согласно Чернышевскому, полюбила себя.
Аскоченский в 34 выпуске «Домашней беседы» (1862 г.), на мой взгляд, справедливо критиковал довод Чернышевского о курице, передававшей цыплятам часть «своего нравственного существа»:
«Не знать, что в этом случае и во всех других наседка руководствуется одним инстинктом, слепо повинуется непреложному закону природы, и с тем вместе делать бойкие выводы об идеальности и нравственном достоинстве её чувств, есть дело более нежели неприличное для современного прогрессивного ума»7Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 34. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 147..
Правда, для Аскоченского ум был прогрессивен, только если он признавал божий промысел:
«Современный ум обязан знать, что природа, или, правильнее, Творец, вложил в животных чувства заботливости о своих детях для размножения царства животного»8Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 34. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 147..
Третье доказательство: мать и умерший ребёнок
Третий пример, который Чернышевский приводил в пользу эгоизма всякого человека, — о матери, которая в горе плакала:
«Ангел мой! Как я тебя любила! Как я любовалась тобой, ухаживала за тобою! Скольких страданий, скольких бессонных ночей ты стоил мне! Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость!»9Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 283.
В словах «я», «моё», «у меня», по мнению Чернышевского, «легко открывалась эгоистическая основа» чувств матери, убитой горем о потери ребёнка.
Это не значит, если истолковать слова Николая Гавриловича, что мать из его примера страдала лишь из-за того, что именно она потеряла чадо и больше не могла видеть его; конечно, она горевала и потому, что исчез из жизни её любимый человек, что погиб именно он. Но она столь сильно не горевала бы, если ребёнок был бы не её, а чужой; она посочувствовала бы другой женщине, потерявшей ребёнка, но не убивалась бы с ней по нему: это ведь не касалось бы её ребёнка. Эгоистический расчёт, шедший из нутра матери, был основой её сильного горя.
Моё мнение о доказательствах Чернышевского
Скажу честно: доводы Чернышевского — и о курице, и о матери — отдают хладнокровием.
Мне близки возражения Аскоченского:
«Что же касается детей, то мы, родители, любим не тогда только, когда они уже воспитались нами, воспользовались плодами нашей о них заботливости; напротив, мы любим их с первой минуты появления их на свет, и тем горячее, чем менее употребили на них своих трудов, забот, издержек…»10Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека. Продолжение // Домашняя беседа. — Вып. 34. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862. — С. 148.
Я повторю мысль из прошлой статьи, что статья «Антропологический принцип…» (1860 г.) была не научной, а полемической; ею Николай Гаврилович хотел донести до молодёжи некоторые идеи, которые казались ему справедливыми, и он, к своей же, по моему мнению, беде, увлёкся словом и не уследил за его резкостью, за что пришлось оправдываться:
«Следовательно, ко мне, как отдельному писателю, эти упрёки [богослова Памфила Юркевича в адрес Н. Г.; Чернышевский обращается к критикам. — А. П.] вовсе не относятся; они относятся собственно к теории [Фейербаха. — А. П.], которую популяризовать я считаю полезным делом»11Чернышевский Н. Г. Полемические красоты // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 769..
Хотя, может, Чернышевский сам признавал холодность собственных рассуждений, потому что в романе «Что делать?» (1863 г.) Лопухов так отзывался о теории «разумного эгоизма», назвав её «теорией выгод»:
«Нет, Вера Павловна: эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трётся она, — холодна, дрова — холодны, но от них огонь, который готовит тёплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуться — иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия в правде жизни. Почему Шекспир — величайший поэт? Потому, что в нём больше правды жизни, меньше обольщения, чем у других поэтов»12Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 100. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Теория «разумного эгоизма» в жизни Чернышевского
Если юный Чернышевский, только переехавший в Петербург, наивно писал отцу, что он «плохо умеет действовать в свою пользу»13Ляцкий Е. А. Н. Г. Чернышевский и его диссертация об искусстве (Из биографических очерков по неизданным материалам) // ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп. 1. № 418. Л. 17–18., то, состоявшись как мыслитель, он стремился проводить в жизнь теорию «разумного эгоизма» — хотя по-прежнему не очень успешно, и неясно, понимал ли он это.
Например, обсуждая не этические, а эстетические проблемы, Чернышевский в статье «Критический взгляд…» (1854 г.) писал:
«…особенно эстетическое наслаждение неодушевлённою природою очень часто сопровождается тёмною мыслью о том, какую пользу или какое наслаждение доставляет она человеку»14Чернышевский Н. Г. Критический взгляд на современные эстетические понятия // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 154–155..
Здесь Чернышевский обобщал своё наблюдение, полагая его общечеловеческими — в нём он хотя бы частично, не сомневаюсь, был прав, но оговорка «очень часто» не спасла его от неаккуратного вывода: если он и ощущал тёмные мысли о пользе природы для себя, когда наслаждался ею, то отсюда он несправедливо заключал, что такие тёмные мысли «очень часто» возникают у других людей, не только у него.
Чернышевский на протяжении всей жизни отстаивал эгоистичность человека. Попробую доказать это.
Первый пример. Когда Чернышевский оказался в казематах, чиновники мешали ему видеться с Ольгой Сократовной, создавая разные проволочки и даже не пропуская её в Петербург. Поначалу Николай Гаврилович оправдывал неприятелей тем, что они столкнулись с волокитой и противниками в министерствах, которые правдами и неправдами не выдавали Ольге Сократовне разрешения на свидание с ним. Это беспокоило её, отчего Чернышевский беспокоился о ней и у него истощался запас терпения. Тогда он в 1863 году написал коменданту Петропавловской крепости Алексею Сорокину, сообщив о своих планах, которые мне, правда, неизвестны:
«Повторяю: я вовсе не угрожаю, — я только говорю, что я действую по расчёту; если я горячусь, — я горячусь по расчёту; если я терплю, я терплю до рассчитанного срока. Если кому кажется, что я действую по увлечению, то я на это замечу, что все называют меня человеком умным, следовательно, очень может быть, что я поступаю не без некоторого соображения…»15Чернышевский Н. Г. Письмо А. Ф. Сорокину от 12 марта 1863 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 476.
Чернышевский уверял коменданта, что он горячится, и горячится исключительно по расчёту, — даже в тюрьме Николай Гаврилович настаивал, что неспособен действовать не по расчёту.
Второй пример. Отбыв каторгу и поселившись в Вилюйске, в селе в дальнем уголке Сибири, Чернышевский пусть и не сразу, но свыкся с неприятными условиями жизни, чему радовался в 1870 году в письме Ольге Сократовне:
«Знаю теперь и хозяйство — не сельское, разумеется, а домашнее: цену всякого найма, всякой вещи. Могу проверить всякий счёт не хуже всякого другого. Вот как усовершенствовался. Поэтому не нахожу проведённого здесь времени потерянным»16Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 5 января 1870 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 499..
Оказавшись в Восточной Сибири, Николай Гаврилович, видимо, рассудил: «Нет худа без добра» — и попытался найти выгоду в своей ссылке, сказав, что благодаря ей он научился, например, вести домашнее хозяйство. Очень расчётливая мысль.
Третий пример. В 1873 году Чернышевский успокаивал Ольгу Сократовну, горевавшую о потере мужа, словами о том, что вскоре, отбыв некоторый срок каторги и ссылки, к нему применят царское помилование. Надеясь на это, он ссылался на благоразумность и непредвзятость своих палачей:
«Милый мой друг, исторические запутанности и надобности принуждают официальных людей принимать иногда и какие-нибудь официальные меры, изменяющие домашнюю жизнь какого-нибудь отдельного человека невыгодным для него и его семейства образом. Но те из официальных людей, которые занимают положения достаточно высокие для того, чтобы иметь широкий кругозор, не руководятся в этих случаях никакими личными неприязненными чувствами и не имеют лично ничего, кроме уважения к человеку — например, такому, как твой муж»17Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 8 февраля 1873 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 526..
Николай Гаврилович надеялся, что в миросозерцаниях его палачей не окажется никаких «личных» неприязненных чувств к нему, словно позабыл, что все люди, по его мнению, расчётливы, поступают только в угоду личным мотивам.
Проявилась ли в этих заверениях Чернышевского его надежда на освобождение, непоследовательность его этических взглядов или он просто пытался ими поддержать жену, неизвестно; хотя третий вариант, предложенный мной, вероятно, отпадает: Чернышевский никогда намеренно не врал Ольге Сократовне, мог лишь недоговаривать ей.
Четвёртый пример. В письме 1878 года сыновьям, ещё находясь в ссылке, Чернышевский признавался:
«…мне нужна не моя личная приятность, мне нужна: научная истина. И из того, что относится ко мне лично, лишь то, что хорошо с научной точки зрения, доставляет мне приятность»18Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 1 марта 1878 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 165..
Отсюда следует: с одной стороны, что́ не относилось к научной истине, самой по себе приятной Чернышевскому, то́ ему было неприятно, хотя оно могло быть приятным для других; с другой стороны — объективная истина для Чернышевского была ценнее его личности, потому что она ей подчинялась, и когда Николай Гаврилович приближался к научным открытиям, то он удовлетворял свои потребности, получал «приятность».
Пятый пример. Переселившись в Астрахань по снисхождению властителей из III отделения, Чернышевский в переписке с сыном Александром в 1883 году, кажется, опровергал верность своих принципов, о которых он сообщал в 1863 году коменданту Петропавловской крепости Сорокину:
«Людям наивным, как мы с тобою, невозможно не оставаться непрерывно ошибающимися в своих расчётах, если они не примут общего решения не иметь никаких надежд, кроме тех, какие основываются не на их собственных влечениях или расчётах, а лишь на личных выгодах людей, от которых зависит ход дела. Для ясности пример: пусть некто, Иван или Марья, Пётр или Анна, чрезвычайно любит меня. Если это не из моих семейных, жизнь которых неразрывно связано с моею жизнью и у которых поэтому личные интересы совпадают с моими, если это лишь “человек, чрезвычайно любящий меня“, то я не жду от него ровно ничего для себя»19Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. Чернышевскому от 1 декабря 1883 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 420..
В этом письме Чернышевский полагал, что людям, по природе своей эгоистичным, если они наивны, стоит полагаться в своих действиях не на собственные, а на расчёты других людей, «от которых зависит ход дела», — тогда и желания их, облекаемые в форму надежд, будут чаще становиться былью. С одной стороны, так Николай Гаврилович отходил от мысли, что люди всегда поступают расчётливо, исходя из собственных интересов, с другой стороны — по идее иногда отходить от своих интересов, чтобы отстаивать их, позволяя другим отстаивать свои, есть тоже расчёт, пусть и хитрый.
Чернышевский, несмотря ни на что, до смертного одра считал себя разумным эгоистом.
В статьях Николай Гаврилович призывал каждого принять свой эгоизм и эгоизм других как факт20Из статьи «Русский человек на rendez-vous» (1858 г.): «Я вам готов рассказать путь, которым я дошёл до этого результата… относительно всего в мире, то есть стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня невыгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы)…». Дальше: «Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда утвердились в этой простой истине, что каждый человек — такой же человек, как и все другие» (Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 164.). — призывал к этому так же, как и Фейербах, который говорил:
«Делайте, что хотите, — вы никогда окончательно не вытравите весь и всяческий эгоизм из человека»21Фейербах Л. Эвдемонизм // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 626..
Некоторая критика теории «разумного эгоизма»
Чернышевский, когда в 1860 году говорил, что Лукреция лишила себя жизни, чтобы избежать гораздо большей неприятности, чем смерть, видимо, предвосхитил позицию позднего Фейербаха из трактата 1866 года «О материализме и спиритуализме».
Чернышевский в 1860 году, как и позднее — Фейербах, предполагал, что если человек лишится своего объекта, который его определяет, то существование перестанет быть для него милым22Я доказывал, почему это верная, на мой взгляд, трактовка взглядов Фейербаха в прошлой статье.; он пожертвует своей жизнью, побуждаемой его любовью к жизни, в обмен на жизнь без большей по силе, чем эта любовь, неприятности, а именно жизни без объекта, что составляет его сущность, то есть человек обменяет жизнь на смерть, покончит с собой.
Если человек кончает с собой в угоду своему эгоизму, то, согласно Фейербаху, вернее сказать, что кончает он с собой в угоду не своему эгоизму, а своей сущности, которая включает эгоизм.
В трактате «О спиритуализме…» (1866 г.) Фейербах писал:
«Даже тот, кто умирает смертью героя, отдаёт жизнь за родину, за свободу или за свои убеждения [которые, по Фейербаху, есть опосредствованные чувства23В «Основных положениях…» Фейербаха (1841 г.) читаем:
«Мы не только воспринимаем камни и деревья, не только тело и кости, мы воспринимаем также чувства, пожимая руки и целуя губы чувствующего существа; мы слышим ушами не только журчание воды и шелест листьев, но мы также воспринимаем одушевлённый голос любви и мудрости; мы видим не только поверхности зеркал и иллюзии красок, мы всматриваемся также во взгляд человека. Итак, не только внешнее, но и внутреннее, не только тело, но и дух, не только вещь, но и я составляют предметы чувств» (Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 190.).
Кажется, что в этом фрагменте Фейербах различал тело и дух, словно признавал существование второго. Но так, возможно, не покажется, если вспомнить, что для Фейербаха в разуме нет ничего, чего нет в ощущениях, а во фразе «…не только тело, но и дух, не только вещи, но я составляют предметы чувств» подразумевается, что и тело, и дух — предметы чувств, рождаемые и определяемые ими; чтó снаружи человека, то и внутри него.. — А. П.], — объявляет тем самым, что он не может абстрагироваться от этих благ, что эта свобода и эти убеждения являются для него необходимостью, стоят в неразрывной связи с его существом и с его жизнью»24Фейербах Л. О спиритуализме и материализме // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 447..
Так Фейербах в своей философской системе умалял самостоятельность воли человека — происходило это потому, что у Фейербаха сущность человека определялась его объектом, довлеющим над ним25Это — онтологическое основание теории «разумного эгоизма», о котором я подробнее рассказывал в прошлой статье..
Объект у Фейербаха был настолько силён, что логически пресекал любые стремления человека к собственному счастью.
Фейербах и — зачастую — Чернышевский — если выразиться гиперболически, — считали, что в жизни человека его объект — скорее всё, чем ничего, а его воля — скорее ничего, чем всё; они умозрительно рассматривали поведение человека, вслед за его натурой. Например, Чернышевский, считая, что человек всегда стремится к собственному счастью, рационализировал его поступки, в какой бы ситуации он ни оказывался, и не предполагал, что человек может оступаться или достигать высот не только сознательно, но и, например, волей случая или по вине эмоций.
Георгий Плеханов подметил, что Чернышевский смотрел на людей так, будто они всегда хладнокровны и решают делать что-либо, руководствуясь «основательными расчётами выгоды». Разбирая пример Лукреции, приводимый Чернышевским, Плеханов спросил:
«Не вернее ли предположить, что в её [Лукреции. — А. П.] поступке расчёт, то есть рассудок, играл гораздо меньшую роль, нежели чувство, сложившееся под влиянием современных ей отношений, привычек и взглядов?»26Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский [1909 г.] // Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 4. — С. 257..
Предположить это было бы вернее, но не последовательнее: Чернышевский настаивал на том, что люди — эгоисты, которые «…приносят выгоды, честь и жизнь других в жертву своему расчёту»27Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 282..
Фейербах в «Лекциях о сущности религии», которые он прочитал в 1848–1849 годах в Гейдельберге и с которыми, вероятно, был знаком Чернышевский, говорил, что под эгоизмом надо разуметь «…не эгоизм “филистера и буржуа“, а философский принцип сообразности с природой, с разумом, вопреки “теологическому лицемерию и спекулятивной фантастике, политической деспотии“»28Цит. по: Ленин В. И. Конспект книги Фейербаха «Лекции о сущности религии» // Философские тетради / Под ред. В. В. Адоратского, В. Г. Сорина. — М. : Парт. изд-во, 1936. — С. 58–59..
Природа для Фейербаха, в сущности, была и природой человека, то есть он сводил человека к природе, потому что, как он говорил в том же месте:
«Существо, которое человек считает себе предшествующим… есть не что иное, как природа, а не ваш бог»,
— есть и другая мысль из лекций Фейербаха:
«То, от чего человек зависит… есть природа, предмет чувств».
Фейербах в работе «О “начале философии“» (1841 г.), которую он написал прежде, чем прочитал лекции о сущности религии, выражался чётче:
«…природа составляет основу духа — и не потому, что природа есть тьма, а дух — свет, что свет возникает только из тьмы, как этому учат мистические теории, но скорее потому, что природа сама по себе есть свет»29Фейербах Л. О «начале философии» // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 100..
Говоря, что природа и человек, в сущности, сходятся в самих себе, ведь природа составляет основу человеческого духа, Фейербах, как и Чернышевский, принявший его позицию о натуре человека, соглашался: неэгоистично, то есть несообразно с природой, или со своим разумом, человек поступать неспособен. Любой поступок человека предопределён его объектом, который, каким бы он ни был, есть проявление природы, так что и воля человека неспособна отречься от неё.
Умозрительно, согласно этим рассуждениям, и получается, что Лукреция убила себя не руководствуясь эмоциями, а согласно необходимым побуждениям природы, которые в индивидуальной форме выразились побуждениями её разума30Напомню, что, согласно Фейербаху, в разуме человека нет ничего, чего нет в ощущениях, которые всецело побуждаются природой и благодаря которым человек черпает материал для разума; стало быть, по Фейербаху, в природе нет такого материала, который позволил бы Лукреции отречься от разума и поступить сообразно эмоциям.:
«Всегда рассчитывайте на рассудок, только давайте ему действовать свободно, он никогда не изменит в справедливом деле»31Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 380. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Отсюда ясно, почему Чернышевский, как и Фейербах, не могли вольно или невольно не рационализировать поведение людей.
Чернышевский в том же году, в статье «В оправдание памяти честного человека» (1860 г.), признавал, напротив, что человек может совершать деяния не всегда разумно и сообразно своим расчётам. Говоря о смерти «честного человека» по фамилии Десятов, Чернышевский упоминал «минуты порыва» и «душевных потрясений»:
«Десятов застрелился не в минуту порыва, когда человек от сильного душевного потрясения теряет сознание своего поступка, когда, обезумев от боли, ищет исхода, бьётся головой об стену, хватает что попало под руку, и если то пистолет, пускает в себя пулю; убьёт ли его эта пуля, или не убьёт, он в ту минуту не думает о том; он ни о чём не думает, ничего не хочет: ни жить, ни умереть, — он ищет исхода; прошёл кризис, и если остался жив, — живёт и благодарит судьбу, как благодарит вставший от смертельной болезни. Не так застрелился Десятов. Он застрелился обдуманно: за полтора суток решился умереть — и умер»32Чернышевский Н. Г. В оправдание памяти честного человека // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 419..
Да, Чернышевский мог поменять своё мнение и заключить в статье «Антропологический принцип…» (1860 г.), в примере о смерти Лукреции, что люди обдуманно совершают даже внезапные самоубийства. Но вероятно, своего мнения он не менял и так выразилась непоследовательность его этических взглядов.
Максим Антонóвич, сотрудник «Современника», в статье «Современная эстетическая теория» (1865 г.), подобно Чернышевскому, противоречил себе в суждениях о поведении человека. В одном месте статьи он писал:
«…разумность и целесообразность есть во всех действиях человека»33Антонович М. А. Современная эстетическая теория // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 102.
— а в другом месте говорил противоположное:
«Мы знаем по цифрам количество жертв, похищенных в Петербурге знаменитою возвратною горячкою, однако на деле не знаем этого бедствия… мы оставались равнодушными к нему. <…> Нельзя сказать, чтобы причиной такой невнимательности было только своекорыстие, то обстоятельство, что бедствие не касалось нашей среды… нет, причина заключалась в нашем незнании, в недостатке живого понимания»34Антонович М. А. Современная эстетическая теория // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 129–130..
Случайная ли, закономерная ли это ошибка — неизвестно, но как минимум она наводит на мысль, что не только Чернышевский, но и его соратники, скорее всего, невнимательно следили за последовательностью своих рассуждений.
Следующие примеры Чернышевского, которые он приводил, доказывая неотделимость эгоизма от человека, — о курице, которая полюбила цыплят из чужих яиц, потому что полюбила в них себя, и о матери, которая убивалась из-за смерти ребёнка, потому что больше не видела своей жизни без него.
Что сущности человека присущ эгоизм, по мнению Чернышевского, доказывается тем, что в своих мыслях и мотивах человек всегда говорит о себе, о своём Я и не видит ничего другого, не видя своего Я.
С одной стороны, в этой установке Чернышевский исходил из мыслей Фейербаха о том, что Ты нет без Я, как и наоборот, Я нет без Ты. С другой стороны, здесь Чернышевский опирался на другие тезисы Фейербаха, выдвинутые им в «Основных положениях…» (1841 г.).
Фейербах писал:
«В боге бытие нельзя отделить от мыслимости; точно так же и во мне, как духе, составляющем, впрочем, мою сущность, нельзя бытие отделить от мышления, — как в первом случае, так и во втором сущность определяется этой неразрывностью»35Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 162..
Фейербах развивал эту мысль позднее в трактате «О спиритуализме и материализме» (1866 г.):
«В силу того, что воля есть не что иное, как сознательная, во вне действующая сущность человека, человек же о сущности вне своего сознания не знает ничего, кроме того, что вместе с волей вступает в его сознание, то он предполагает волю перед своей сущностью, делает её чем-то априорным в отношении к своей сущности, свою индивидуальную сущность превращает в закон для других, своё бытие делает для них долженствованием»36Фейербах Л. О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 499..
Стало быть, видеть себя в другом и мыслить своё Я всегда, по Фейербаху, — данность, потому что человек не может не предполагать свою волю перед своей сущностью, то есть перед своим объектом.
Загвоздка в том, что рассуждения о неотделимости Я от человека не доказывали, а опровергали мнение, будто человек поступает всегда эгоистично, а не иначе.
Если признать, что человек не может не повиноваться своему Я, то спрашивается, что определяет это Я. По Фейербаху и Чернышевскому: Я определяет его объект. Но поскольку объектов человека много, почему человек всегда поступает эгоистично? Если объектов человека всё-таки немного, то неясно другое: почему человек расчётливо решает, что для него плохо, а что — хорошо, словно человек властен над своим объектом, хотя именно его объект должен быть властен над ним, ибо он определяет его сущность и стремления его воли.37Эта мысль — онтологическое основание теории «разумного эгоизма», которое я раскрыл в отдельной статье.
Другая загвоздка — не стоит думать, будто действия человека, которые выглядят как действия, которые он и только он намеревается совершать, такие же и в себе, по сути. Думать так — значит судить о действиях человека формально, или, как выражался Чернышевский, критикуя эстетику Гегеля, по их формальной стороне.
В диссертации (1855 г.) Чернышевский критиковал эстетические взгляды Гегеля и его последователей за то, что они утверждали: прекрасное есть «единство идеи и образа». С этим Чернышевский не соглашался, потому что, по его мнению, тезис о «единстве идеи и образа» говорит «о том, как должно быть исполнено, а не о том, что исполняется», то есть нисколько не говорит о том, что составляет идею произведения искусства и какова его образность, ею определяемая.
Чернышевский лаконично выражал свою критику:
«“Прекрасно нарисовать лицо“ и “нарисовать прекрасное лицо“ — две совершенно различные вещи»38Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 9..
В статье «Что такое обломовщина?» (1859 г.) Добролюбов поддерживал позицию Чернышевского:
«…мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни»39Добролюбов Н. А. Что такое обломовщина? // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 1. — С. 507..
То же говорил Антонович в 1861 году, рассуждая о теории познания:
«Всё это вздор и пустяки формальной логики, что будто бы формы мысли не зависят от её содержания, что можно из одних только форм построить какую угодно штуку, не обращая внимания на содержание, и что будто бы у нас может быть множество форм без содержания»40Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 56..
Прекрасное — это жизнь, по мнению Чернышевского, и произведение искусства тем прекраснее, чем художник правдивее с его помощью воспроизвёл, объяснил и оценил жизнь.
В авторецензии на диссертацию, спустя 33 года после её защиты, Чернышевский критиковал уже себя за то, за что́ критиковал гегелевскую эстетику:
«Словами: “искусство есть воспроизведение явлений природы и жизни“, определяется только способ, каким создаются произведения искусства; остаётся ещё вопрос о том, какие же явления воспроизводятся искусством; определив формальное начало искусства, нужно, для полноты понятия, определить и реальное начало или содержание искусства. Обыкновенно говорят, что содержанием искусства служит только прекрасное и его соподчинённые понятия — возвышенное и комическое. Автор находит такое понятие слишком узким и утверждает, что область искусства — всё интересное для человека в жизни и в природе. Доказательство этого положения мало развито и составляет самую неудовлетворительную часть в изложении г. Чернышевского…»41Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 110.
Критикуя гегельянцев за то, что они ограничивали прекрасное, выражаемое произведениями искусства, его внешней стороной — соответствием формы содержанию и содержания — форме, Чернышевский убедительно не обосновал, почему его позиция «прекрасное есть жизнь» вернее эстетической позиции Гегеля.
Чернышевский своей формалистической, пусть и менее гегелевской, мыслью шире раскрыл прекрасное, каким оно есть в жизни.
Николай Гаврилович намекнул, что произведения искусства не замкнуты в своих чертах, формальных и содержательных, а определяются тем, что́ произведениями искусства воспроизводит художник, то есть определяются правдой жизни, обрабатываемой его талантом.
Видимо, Чернышевский в вопросах эстетики следовал позиции Фейербаха из «Основных положений…» (1841 г.), которая, правда, относится не к эстетике, а к теории познания, как это было у Антоновича, процитированном выше:
«Мышление, взятое само по себе, изолированно, не приводит ни к какому положительному отличию и противоположности себе, именно поэтому не имеет никакого другого критерия истины, кроме того, что нечто не противоречит идее, не противоречит мышлению; таким образом, это только формальный, субъективный критерий, который ничего не решает по вопросу о том, является ли мыслимая истинность также действительной истиной»42Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 1. — С. 196..
Если в своей эстетике Чернышевский пытался разделять позицию Фейербаха, выходить за рамки форм явлений, выявляя их содержание, то странно, что он явно не добивался того же результата в своей этике. Как писал Плеханов:
«Из того, что сознание своего “я“ никогда не покидает человека в его соображениях о своих действиях, вовсе ещё не следует, что все его действия эгоистичны»43Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский [1909 г.] // Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 4. — С. 261..
Лукреция убила себя, потому что, по словам Чернышевского, ей не хотелось жить опороченной. Но ей не хотелось этого, осмелюсь предположить, ведь над ней довлели обстоятельства и общественные нравы, которые выставляли её порочной, и муж, который, по мнению Чернышевского, любил её меньше, чем раньше. Лукреция вряд ли покончила бы с собой, не будь причин, побудивших её к этому, но причины не проникали её, как посчитал бы Фейербах и с оговорками — Чернышевский, а были вне её.
Уйдя из жизни по своему желанию, Лукреция ушла из неё не столько по своей воле, сколько по воле окружавшего её мира, который она боялась очернять собой — по крайней мере, если верить словам Чернышевского:
«Коллатин мог сказать жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему, но <…> Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унизительном по сравнению с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет терпеть голод, чем прикоснётся к пище, осквернённой какой-нибудь гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо легче унижения»44Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 284..
Лукреция могла зауважать себя с большей, чем прежде, силой, ведь она знала о своей невиновности, и тем самым воспротивиться воле окружавшего её мира. Но не у каждого человека есть на то способности и крепость характера. У Лукреции, вероятно, отдавшейся эмоциям, их не оказалось.
Хотя у Лукреции оказались понятия о том, какими идеалами она была готова поступиться, а какими — нет; они и увлекли её в лоно смерти. Памфил Юркевич, богослов и критик Чернышевского, говорил:
«Пример Лукреции, которая “закололась, когда её осквернил Секст Тарквиний“, всего скорее мог бы показать нашему сочинителю, что человек не наслаждается удовольствием непосредственно и безусловно, как животное, но что его удовольствия стоят в зависимости от той идеи, какую он образовал себе о достоинстве предметов или целей своей деятельности»45Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 190..
Похожую ошибку Чернышевский допустил в примерах о цыплятах и курице или в примере о матери погибшего ребёнка.
Конечно, герои примеров Николая Гавриловича любили — представим, что курица способна любить, — в своих питомцах себя, но не столько себя, сколько самих питомцев.
Человек или даже курица много чего делали — опять же, представим, что курица умеет что-либо «делать», — но «любили» они не каждое сделанное ими, ибо всё и всех любить нельзя, как считал, например, ранний Чернышевский46В «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855 г.) Чернышевский писал:
«Кто гладит по шерсти всех и всё, тот, кроме себя, не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан» (Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 22.).
Это было написано незадолго до того, как Чернышевский в статье о «Губернских очерках» (1857 г.) сказал, что человеку свойственно стремиться к добру и правде. Значит, ранний Чернышевский, вероятнее всего, считал, что добрый человек не может любить всё, ибо во всём есть и зло, а не только добро, к которому тот стремится.
Если я не ошибся, то здесь Чернышевский следовал мысли Фейербаха из «Сущности христианства» (1841 г.):
«Кто не хочет быть грубым, не хочет, чтобы его существование кого-нибудь оскорбляло, тот должен отказаться от существования» (Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения: в 2-х томах / Общ. ред. и вступ. статья М. М. Григорьяна. — М. : Госполитиздат, 1955. — Т. 2. — С. 45.)., а «любили» только то, что приносило им счастье или другую радость. Но эту радость не они привносили в питомцев, а питомцы привносили её в них.
Мать несомненно любила сына, но источником её любви был сам сын, которого бы не было таким, каким его любили, не совершал бы он определённых действий и не придерживался бы он тех или иных идеалов, ценностей и представлений.
Положительные стороны теории «разумного эгоизма»
Непоследовательность Чернышевского в этических взглядах
Даже в сочинениях Чернышевского опровергалась мысль, что человек всегда поступает эгоистично.
В диссертации (1855 г.) Чернышевский писал:
«Любовь гораздо сильнее наших ежедневных мелочных расчётов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее их — потому страсть возвышенное явление»47Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 20..
Любовь, по мнению Чернышевского, гораздо сильнее мелочного расчёта, но если она, согласно теории «разумного эгоизма», всё равно расчёт, то, видимо, если следовать логике Чернышевского, не мелочный, а возвышенный или, по крайней мере, менее мелочный, чем ежедневный, расчёт. Но Чернышевский не осмелился в диссертации назвать любовь каким бы то ни было расчётом:
«Дездемона и Офелия любят и страдают с такой полной преданностью [а не эгоизмом. — А. П.], способность к которой найдётся далеко не во всякой женщине»48Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 20. 49Чернышевский не осмеливался называть преданнейшую любовь расчётливой, видимо, только в своих публичных сочинениях. Спустя почти 30 лет, обсуждая жизнь с сыном Александром, в одном из писем Чернышевский назвал серьёзную, хотя и не преданнейшую, любовь выгодным союзом двух людей:
«То, что называется “любовью“ в жизни, нечто совершенно иное, чем любовь в серьёзном смысле слова. Это — союз двух людей, которым выгодно, и ему и ей, жить в супружеских отношениях; привычка обращает со временем этот союз двух эгоизмов в родственную привязанность, чистую, бескорыстную, как взаимная привязанность хороших братьев или сестёр, но более сильную, чем братская или сестринская взаимная привязанность» (Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. Чернышевскому от 1 декабря 1883 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 421.)..
Другой пример — из статьи «Возвышенное и комическое» (1855 г.):
«…проявления страстной любви, самоотверженной дружбы и т. д. действительно увлекательны, очаровательно или страшно возвышенно, но вовсе не потому, чтобы они пробуждали идею “бесконечной силы“, а просто потому, что они — важнейшие, интереснейшие моменты жизни, что они — всё равно, ядовитый или благоуханный цвет, но цвет жизни человеческой»50Чернышевский Н. Г. Возвышенное и комическое // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 171..
Страстная любовь и самоотверженная дружба, по теории Чернышевского, здесь должны были именоваться ни чем иным, как страстными расчётами выгоды, но Николай Гаврилович назвал их «интереснейшими моментами жизни», «цветом жизни человеческой» — моментами «жизни», а не, предположим, «эгоизма» или «эгоистических стремлений».
Здесь Чернышевский, воодушевлённый мыслями о высоких чувствах, словно забывал о своей «теории выгод», приобщаясь к жизни человека, состоящей не из одних расчётов.
В романе «Что делать?» (1863 г.) Лопухов говорил Кирсанову:
«…то, что делается по расчёту, по чувству долга, по усилию воли, а не по влечению натуры, выходит безжизненно. Только убивать что-нибудь можно этим средством, как ты и делал над собою, а делать живое — нельзя»51Чернышевский Н. Г. Что делать? — М. : Худ. лит., 1969. — С. 241. — (Библиотека Всемирной литературы: Серия вторая, Т. 122.)..
Чернышевский вольно или невольно возвышал расчёт человека, когда рассуждал о благородных явлениях человеческой жизни, и не был прав доктор философских наук Игорь Пантин, писавший:
«По-видимому, перед нами обычный просветительский (в духе XVIII в.) ход мысли: ответив на вопрос, что выгодно и что невыгодно самому индивидууму, просветитель [Николай Гаврилович. — А. П.] обнаруживает объективный механизм, который заставляет человека, не обладающего свободой воли, быть добродетельным»52Пантин И. К. Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2-х томах / Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. — М. : Мысль, 1986. — Т. 1. — С. 49..
«Расчёт» Чернышевского должен был перерасти себя и стать чувством нового порядка.
Так произошло до статьи «Антропологический принцип…» (1860 г.), в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855 г.):
«…Надобно же уступать человеку некоторую свободу в чувствах, не всегда же можно требовать от человека, чтоб он действовал только по внушению благоразумного расчёта и холодного рассудка. Ужели вы изгоняете из мира поэзию? ведь увлечение чувством и есть поэзия»53Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. — М. : ГИХЛ, 1953. — С. 88..
Так и произошло потом, когда Чернышевский в 1872 году, находясь в ссылке, писал сыновьям:
«…научная истина о всех честных и добрых личных чувствах: это чувства, имеющие непреодолимое свойство расширяться с любимого нами человека на всех людей»54Чернышевский Н. Г. Письмо О. С. Чернышевской от 17 мая 1872 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 173..
Поздний Чернышевский даже признал, что есть люди, которые способны любить без пользы для себя:
«Есть много людей, способных бескорыстно любить или другого человека, или какую-нибудь “идею“, — например, науку, или искусство, или что-нибудь такое. Но хоть этих людей и много, всё-таки они отдельные, исключительные явления и никогда, никак не могли составить из себя никакой корпорации…»55Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 11 апреля 1877 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 22.
Но признал бескорыстную любовь Чернышевский потом. За три года до ссылки, в статье «Антропологический принцип…» (1860 г.), Николай Гаврилович назвал любовь Лукреции «очень расчётливой» — при этом неясно, была ли, в его понимании, и любовь Дездемоны и Офелии «очень расчётливой». Вероятно, нет, так как четырьмя годами ранее, в 1856 году, он писал:
«Кто не испытывал, как освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается всё существо присутствием девственного [а не “расчётливого“. — А. П.] душою существа, подобного Корделии, Офелии или Дездемоне?»56Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 428.
Теория «разумного эгоизма» как хитрость разума
Неразумно гадать, почему Чернышевский был непоследовательным, говоря в диссертации и в нескольких статьях одно, а в «Антропологическом принципе…» — другое57Чернышевский оговаривался, и когда писал родным из Сибири. Например, в письме сыну Михаилу от 15 сентября 1876 года, рассуждая об ордене иезуитов, Чернышевский объяснял: если цель — благосостояние Испании, то добиваться этой цели надо хорошими средствами, — объяснял так, словно у людей, которые добиваются этой цели, есть попросту хорошие намерения, которые не соответствуют их эгоистическим расчётам (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 684.).
В одном из следующих писем Чернышевский исправился: «Моя ошибка в моей маленькой трактации о иезуитах состояла в том, что я забыл упомянуть: никакая корпорация никогда не служила бескорыстно никакому делу; всякая корпорация всегда ставила выше всяких своих практических стремлений на чужую пользу и выше всяких своих теоретических убеждений собственные интересы» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 23.)..
Чернышевский своей непоследовательностью не столько опровергал теорию «разумного эгоизма», сколько доказывал на примерах, по выражению Гегеля, «хитрость разума», которую не раз подмечали исследователи человеческой души.
Первая хитрость разума. Гегель, как передавал его мысль доктор философских наук Арсений Гулыга, был убеждён:
«Хотя каждая индивидуальность считает, что действует лишь эгоистически, она лучше, чем мнит о себе. Когда она поступает своекорыстно, то она лишь не ведает, что творит, и когда она уверяет, что все люди поступают своекорыстно, то она только утверждает, что ни один человек не сознаёт, что такое действование»58Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. — 2. изд., испр. и доп. — М. : Рольф, 2001. — С. 250. — (Серия: «Библиотека истории и культуры»)..
Действование для Гегеля — философская категория, обозначающая «претворение замысла в действительность», само претворение замысла, а не его результат. Человек осуществляет свои замыслы в коллективе, а если смотреть шире — в обществе; он не может достигать чего-либо своей волей, не сталкиваясь с волями других людей. Сталкиваясь, эти воли образуют «всеобщую стихию», историю человечества, поэтому всякое дело человека, кажущееся своекорыстным, на практике есть «дело всех».
Чернышевский же, полагая вездесущую эгоистичность действий человека, не осознавал его «действования», не видел за личностью — коллектива, общества, не одного Ты.
Не видел этого Николай Гаврилович, так как знал, но не осознавал, или догадывался, что «…принимая одни мысли и отвергая другие, ставя одни цели и отказываясь от других, человек не ощущает никакой силы, навязывающей ему извне эти мысли и цели»59Богуславский В. М. Тезисы Маркса о Фейербахе. — М. : Знание, 1960. — С. 5..
Не ощущая «противо-воли», как выражался Фейербах, то есть воли другого, противной воли одного, человек мнит себя независимым и ему кажется, будто никто не властен над ним — если, конечно, он не связан отношениями господства-подчинения. Но это не так. Он властен над своей волей, но воля его подвластна миру, окружающему её, не только обществу, но и природе. Человек неспособен выйти за границы себя и реальности, потому что он «ограничен внешними явлениями и теми впечатлениями, какие они производят на него»60Антонович М. А. Два типа современных философов // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 48.; человек скован, пусть и не полностью, в своих желаниях и действиях, а если он возомнит о себе, что способен переступить границы реальности, то в итоге разочаруется в своих возможностях.
Вторая хитрость разума. Добролюбов, скорее всего, бессознательно опроверг этическую позицию Чернышевского в статье «Органическое развитие человека…» (1858 г.), где сказано:
«…душа не внешней связью соединяется с телом, не случайно в него положена, не уголок какой-нибудь занимает в нём, — а сливается с ним необходимо, прочно и неразрывно, проникает его всё и повсюду так, что без неё, без этой силы одушевляющей, невозможно вообразить себе живой человеческий организм»61Добролюбов Н. А. Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 1. — С. 237..
Согласно Добролюбову, душа — вернее сказать, на мой взгляд, «сознание», — человека сливается с его телом, проникает его, становится им, отчего невозможно душе [сознанию] помыслить себя вне рамок тела, конкретно существующего и представляемого Я.
Доказывается мысль Добролюбова просто: попробуем представить любого человека, пусть даже и мёртвого; получается ли представить его без тела?
Не получается; но так и должно быть, потому что человек немыслим без того, в чём и благодаря чему он существует. Люди, которым был дорог умерший человек, чувствуют его лишённым, то есть не существующим, но присутствующим в их мыслях и воспоминаниях, — но и здесь «присутствующим» в форме своего тела; материальным, лишённым своей непосредственной материальности, то есть идеальным.
В другом месте той же статьи Добролюбов писал:
«Пока мы не замечаем разницы между предметами, до тех пор мы существуем бессознательно. Первый акт сознания состоит в том, что мы отличаем себя от прочих предметов, существующих в мире. Уже в этом отличении заключается и некоторое противопоставление, и противопоставление это тем сильнее, чем более самостоятельности признаём мы за своим существом»62Добролюбов Н. А. Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью // Избранные философские сочинения: в 2-х томах / Под ред. и с предисл. М. Т. Иовчука. — М. : Гос. изд-во полит. лит, 1948. — Т. 1. — С. 233..
Из позиции Добролюбова выходило, что человек говорит о себе или имеет в виду себя, когда, например, страстно любит или самоотверженно спасает кого-либо, потому что не может не отличать себя от других, обладая сознанием и делая то, что только способен делать.
Человек не может, например, любить кого-либо, если не отличает себя от того, кого он может любить.
Третья хитрость разума. Ленин определял совесть человека, по пересказу доктора философских наук Ивана Фролова, как «внутреннюю моральную ответственность перед самим собой»63Введение в философию : Учебник для вузов: в 2-х частях / Фролов И. Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др. — М. : Политиздат, 1989. — Ч. 1. — С. 257..
Мораль для Ленина была только общественной, потому что человек, даже если он избегает этой истины, ответственен перед обществом, или другими людьми, объединёнными в коллектив, через посредство того, что ответственен перед собой как представитель человечества, как уже общественное существо.
Отвечая перед другими людьми, человек ощущает «голос совести», по сути — «внутреннюю моральную ответственность перед самим собой».
Голос совести напоминает человеку, что он совершил нехороший поступок — «нехороший», потому что несообразный общественным условиям. Если человек не понимает этого, то вскоре гибнет разными путями, которые определяются его непониманием, поэтому он всегда ощущает, даже если невольно и если он не безумец и не не от мира сего, давление ответственности перед другими через посредство ответственности перед собой; она облекается в форму рассуждений человека с самим собой, в индивидуальные желания и оказывается «я», «меня», «у меня», какими словами Чернышевский объяснял эгоизм матери, страдавшей от потери ребёнка.
Много ещё хитростей разума предстоит открыть человечеству, но ясно, что Чернышевский оказался в объятиях одной из них.
Объективная истина в теории «разумного эгоизма»
В статьях, где Николай Гаврилович излагал свои этические взгляды, от верной позиции, что человек не может существовать без своего Я64«Опытным путём удалось доказать, говорит по этому поводу О. Кюльпе (1916), что наше “я“ нельзя отделить от нас. Невозможно мыслить — мыслить, отдаваясь вполне мыслям и погружаясь в них, и в то же время наблюдать эти мысли. Такое разделение психики невозможно довести до конца. Это и означает, что сознание нельзя направить на себя, что оно является вторичным моментом. Нельзя мыслить свою мысль, уловить самый механизм сознательности — именно потому, что он не есть рефлекс, т. е. не может быть объектом переживания, раздражителем нового рефлекса, а есть передаточный механизм между системами рефлексов. Но как только мысль окончена, т. е. замкнулся рефлекс, можно его сознательно наблюдать: “Сначала одно, потом другое“, — как говорит Кюльпе» (Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения // Собрание сочинений в 6-ти томах / Под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского. — М. : Педагогика, 1982–1984. — Т. 1. — С. 94.). — которое, добавлю, определяется после осознания других людей или, шире, общества65Лев Выготский писал: «Мы сознаём себя, потому что мы сознаём других, и тем же самым способом, каким мы сознаём других, потому что мы сами в отношении себя являемся тем же самым, чем другие в отношении нас. Я сознаю себя только постольку, поскольку я являюсь сам для себя другим, т. е. поскольку я собственные рефлексы могу вновь воспринимать как новые раздражители. Между тем, что я могу повторить вслух сказанное молча слово, и тем, что я могу повторить сказанное другим слово, — по существу нет никакой разницы, как нет принципиального различия и в механизмах: и то, и другое обратимый рефлекс — раздражитель».
И дальше: «Прекрасным подтверждением этой мысли о тождестве механизмов сознания и социального контакта и о том, что сознание есть как бы социальный контакт с самим собой, может служить выработка сознательности речи у глухонемых, отчасти развитие осязательных реакций у слепых» (Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения // Собрание сочинений в 6-ти томах / Под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского. — М. : Педагогика, 1982–1984. — Т. 1. — С. 96–97.)., — переходил к мнимо-верной позиции, что человек всегда эгоистичен; Чернышевский смотрел на объективно-истинную подоплёку действий человека с оборотной стороны: вместо Я в коллективе людей видел Я-одиночку, который может общаться с другими Я, но не жизненно связан с ними.
Плеханов возмущался позицией Чернышевского:
«Если данное “я“ видит своё счастье в счастье других; если оно имеет “пристрастие“ к этому счастью, то такое “я“ называется альтруистичным, а не эгоистичным. И стремиться затушевать глубокое различие между эгоизмом и альтруизмом только на том основании, что альтруистические действия также сопровождаются у людей сознанием ими своего “я“, — значит желать внести логическую неясность туда, где безусловно необходимо полная ясность»66Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский [1909 г.] // Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 4. — С. 261..
Называя любые, даже самые самоотверженные, поступки человека расчётливыми, оправдывая это природной эгоистичностью человека, Чернышевский:
- Определял суть явлений их проявлением, ибо определял суть каждого поступка человека эгоистичной, ссылаясь на неотделимость Я от него;
- Должен был признать, что натура человека — быть расчётливым; но он не смог бы это признать.
Ещё в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855 г.), за пять лет до статьи «Антропологический принцип…», Чернышевский писал:
«…несправедливо было бы считать положительным человеком холодного эгоиста. Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастию окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм. Кто действует исключительно по расчётам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врождённые и неискоренимые потребности»67Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 476–477..
Неясно, считал ли Чернышевский через пять лет, в статье «Антропологический принцип…» (1860 г.), врождены ли человеку, кроме эгоизма, любовь и доброжелательство. Но понятно, что в этой статье Чернышевский:
- Признавал нравственные потребности человека, которые он не сводил к его естественной потребности избегать боль или не избегать её сейчас, чтобы избегать её потом, то есть не сводил нравственные потребности человека к его потребности быть расчётливым;
- Имел в виду, будто есть два «расчёта» человека — противоречащий природе человека, сугубо эгоистический, и соответствующий ей, который побуждает видеть собственное счастье при счастье остальных, то есть утолять потребность добиваться всеобщего счастья, добиваясь личного счастья.
Поздний Чернышевский из статьи «Антропологический принцип…» жертвовал последовательностью своих мыслей, с одной стороны признавая нравственные потребности, а с другой — сводя их к потребности быть расчётливым — так как чувство, рождаемое мыслью, что человек только расчётлив, было для Чернышевского узким, как и любое другое низкое чувство. Николай Гаврилович был человеком сентиментальной души, и он говорил Николаю Некрасову в 1856 году:
«Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие [же] права, как и поэзия мысли, — лично для меня первая привлекательнее последней»68Чернышевский Н. Г. Письмо Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 322..
Чернышевский поступательно не отстаивал мнение, что «поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли», из-за чего продолжал себе противоречить.
Плеханов заметил, как выражалась непоследовательность мыслей Чернышевского в романе «Что делать?» (1863 г.), который создавался через три года после статьи «Антропологический принцип…» (1860 г.); Плеханов комментировал роман:
«Прежде Вера Павловна жила в “атмосфере хитрых слов, из которых каждое произносится по корыстному расчёту“. Теперь ей тяжело дышится в этой атмосфере. Почему же тяжело, если люди вообще ничем не руководствуются, кроме расчёта? Ей тяжело потому, что расчёт, которым руководятся люди, подобные её родителям, есть нехороший, “корыстный“ расчёт, совершенно чуждый “любви и добру“. Оказывается, стало быть, что, сведя всё к расчёту, Чернышевский принужден различать корыстный расчёт, “чуждый любви и добру“, от бескорыстного, пропитанного этой любовью»69Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский [1909 г.] // Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 4. — С. 262..
По мнению Плеханова, Чернышевский в романе разграничил виды расчётов человека по той же причине, из-за которой это делали в своих трактатах просветители, например Гольбах, — потому, что Чернышевский «оказался в логической необходимости» разграничить их.
Логическая необходимость для Чернышевского заключалась в том, что ему надо было противопоставить родителей Верочки, особенно её мать, которая была не против «обирать и обкрадывать», коли обирают и обкрадывают другие, разумным эгоистам, людям нового порядка — Лопухову, Кирсанову и членам их кружка.
И родители Верочки, и разумные эгоисты прислушивались к своим расчётам выгоды, поскольку они — люди, сущность которых, по Чернышевскому, эгоистична. Но в таком случае между ними не было принципиальных различий: и те и другие представали эгоистами. Не такой замысел вынашивал Чернышевский. Разница между теми и другими имелась: она — в степени разумности их расчётов выгоды: родители Верочки жили для себя и только для себя, а люди нового порядка — для себя, но в конечном счёте для остальных. В «Преступлении и наказании» (1866 г.) Пётр Лужин, жених сестры Раскольникова, так излагал эту идею:
«Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем…»70Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Полное собрание сочинений: в 30-ти томах / Редкол.: В. Г. Базанов и др. — Л. : Наука, 1972–1990. — Т. 6. — С. 116.
Наблюдение Плеханова было верным. Но Чернышевский, противореча в романе своим этическим выводам, доказывал верность своих эстетических воззрений.
Так, Чернышевский отстаивал, например — в письме 1885 года, верность той мысли, что талантливые произведения искусства создаются при единстве головы и сердца:
«Не только лирический порыв важен; важно и то, чтоб он нашёл себе удовлетворительное выражение; в этом и разница между чувствами массы людей и произведениями поэтов: думается, чувствуется человеку без поэтического дарования то самое, что выскажет поэт, только форма не даётся не-поэту»71Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. Чернышевскому от 18 февраля 1885 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 513. 72В рецензии 1854 г. на издание «Поэтики» Аристотеля Чернышевский рассуждал о том, как Платон понимал вдохновение. Осмысливая его идеи, Чернышевский, помимо прочего, объяснил, что значит создавать произведения искусства не только сердцем, но и головой:
«…Платон нападает не на “вдохновение“, а на то, что очень многие поэты (не говоря уже о других художниках), к величайшему вреду искусства, полагаясь на одни силы “творческого гения, инстинктом прозирающего в тайны природы и жизни“, пренебрегают наукою, которая избавляет от пустоты и ребяческой отсталости содержания. “Ich singe, wie der Vogel singt“ (Я пою, как поёт птица. — нем.), — говорят они; зато их пение, подобно соловьиной песне, остаётся годным только для забавы от нечего делать, очень скоро надоедающей, как и слушанье соловьиной песни. Прекрасное учение, что поэт пишет по вдохновению, чуждому всякой рассчитанности, и что произведение придумывающего, рассчитывающего поэта холодны, не поэтичны, господствовало в Греции со времён гениального Демокрита. У Аристотеля вдохновение стоит уже на втором плане: он учит писать трагедии, подбирать эффектные завязки и развязки по рецепту. Из этого даже видно, что Аристотель, как эстетик, принадлежит временам падения искусства: вместо живого духа у него учёные правила, холодный формализм. От Горация и Буало, от всех последующих составителей “риторик“ и “пиитик“, отличается он только, как гениальный учитель от ограниченных учеников: различие здесь не в сущности понятий, а в степени ума, их развивающего» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 270.)..
Эту же идею утверждал литературный критик Аполлон Григорьев, современник Чернышевского. В статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859 г.) он писал:
«Истинный художник сам верует в разумность создаваемой им жизни, свято дорожит правдою, и оттого мы в него веруем…. Одним словом, как говорит Гоголь в своём глубоком по смыслу “Портрете“, предметы видимого мира отразились сперва в душе самого художника — и оттуда уже вышли не мёртвыми сколками с видимых явлений, а живыми, самостоятельными созданиями, в которых, как Гоголь же говорит, “просвечивает душа создавшего“»73Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Апология почвенничества: сб. ст. / Сост. и коммент. А. В. Белова. — М. : Ин-т русской цивилизации, 2008. — С. 229–230..
Антонович соглашался с тем, что талантливые произведения искусства создаются живыми, не мозаичными образами, а цельными «кусками мрамора». В статье «Современная эстетическая теория» (1865 г.), комментируя второе издание диссертации Чернышевского, Антонович говорил:
«Действительность для нас привлекательнее поэзии, потому что и самая созданная поэзиею личность, идеальная личность нравится нам настолько, насколько она кажется действительною, живою…»74Антонович М. А. Современная эстетическая теория // Избранные статьи : Философия, критика, полемика / Под ред. В. Евгеньева-Максимова ; Коммент. Д. Максимова и др. — Л. : Гослитиздат, 1938. — С. 104.
Когда Чернышевский работал над романом, основываясь на взглядах просветителей и Фейербаха, то пытался сделать его руководством для юношей — детерминирующей силой, которая меняла бы реальность, по выражению Анатолия Луначарского75Луначарский А. В. Этика и эстетика Чернышевского перед судом современности // Статьи о Чернышевском. — М. : Госполитиздат, 1958. — С. 97. 76Так же считал Е. А. Ляцкий, муж В. А. Ляцкой (урождённой Пыпиной). Он изучал семейный архив Пыпиных и, помимо прочего, впервые опубликовал сибирские письма Чернышевского к родным, комментировал его романы. Про задачи «Что делать?» Ляцкий говорил:
«Цель “вразумить“ читателя, заставить его вдумчиво отнестись к общим идеям, к основному смыслу романа, слишком ясна. Чернышевский явно стремился поставить читателя на ту высоту понимания его намерений…» (Ляцкий Е. А. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» // ИРЛИ РАН. Ф. 163. Оп. 1. № 199. Л. 26.).. Разворачивая в образности романа его идейность, идейность этой «детерминирующей силы», Чернышевский животворил его, поэтому посылки, объективная истинность которых была велика и на которые он опирался, его рукой доводились до ещё бóльшей объективной истинности.
В статье «Тёмное царство» (1859 г.) Добролюбов писал:
«…нередко даже в отвлечённых рассуждениях он [художник. — А. П.] высказывает понятия, разительно противоположные тому, что выражается в его художественной деятельности, — понятия, принятые им на веру или добытые им посредством ложных, наскоро, чисто внешним образом составленных силлогизмов. Собственный же взгляд его на мир, служащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в живых образах, создаваемых им»77Цит. по: Лифшиц М. А. Русская классическая критика // Собрание сочинений: в 3-х томах / Реценз. М. Ф. Овсянников, А. Я. Зись. — М. : «Изобразительное искусство», 1988. — Т. 3. — С. 30..
Чтобы создать в большей верности, как и эстетическую, свою этическую концепцию, Чернышевскому, как мне кажется, требовалось:
- Отказаться от философской категории объекта, абсолютной и вседовлеющей над личностью, как её понимал Фейербах, — иногда она вынуждала Чернышевского непоследовательно сводить нравственные потребности человека к его естественным потребностям;
- Взять отношения людей «просто-напросто в том их значении, какое они имеют сами по себе»78Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50-ти томах. — 2-е изд. — М. : Изд-во полит. лит., 1955–1981. — Т. 21. — С. 293., то есть рассмотреть, как отдельные отношения людей преломляются в единстве общественных отношений;
- Отречься от убеждений, которые не позволяли ему признать расчётливость сутью человека, или переосмыслить их, чтобы перестать видеть в человеке одну какую бы то ни было расчётливость.
Поскольку Чернышевский этого не сделал, то в сочинениях, где выражались его эстетические взгляды, он настойчиво писал: человек, подчиняющийся природе, в сущности эгоистичен, потому что в жизни следует её законам; природа, в свою очередь, побуждает его печься о выживании, то есть о выгодах и счастье для себя, и тому есть, казалось бы, много доказательств из истории. Недаром Чернышевский писал сыну Михаилу в 1877 году:
«Прошу тебя быть уверенным лишь в том, что в моих мнениях о вопросах истории ли, другой ли какой из наук, бывших предметами моих учёных занятий, не может быть ничего несогласного с истинами естествознания»79Чернышевский Н. Г. Письмо М. Н. Чернышевскому от 7 июля 1877 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 74..
Догадка об этических взглядах Чернышевского
Возможно, Николай Гаврилович, сам того не понимая, рассуждал о законах «человеческой природы» не в буквальном смысле этого выражения.
Просто в то время, как писал сам Чернышевский, было принято «определять способ действия качеств материи», называя их «законами природы». Читаем, например, письмо Николая Гавриловича 1877 года:
«Когда мы определяем способ действия качеств [материи. — А. П.], мы говорим, что находим “законы природы“. — О каждом термине тут ведутся споры. Но реальное значение этих споров — нечто совершенно иное, чем серьёзное сомнение относительно фактов, обозначаемых сочетаниями слов, в которые входят эти термины»80Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 21 июля 1876 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 14. — С. 667..
Человек, по мысли Чернышевского, материален, то есть составляет материю; он, как и другие её «части», обладает качествами; а то, как они действуют, есть «законы природы» — хотя, видимо, «природы» не как таковой, а «человеческой».
Если Николай Гаврилович рассуждал именно так, то он не объяснял сущность человека только закономерностями развития природы; он лишь употреблял в своих этических заключениях понятия естествознания.
Проверить это — как и то, изменилась ли с годами позиция Чернышевского о предопределённой эгоистичности человека, — скорее всего, невозможно. Доктор искусствоведения Виктор Арсланов подмечает:
«Чернышевский не затрудняет себя словами, не стремится с особым нажимом, подчёркнуто, бросающимся в глаза шрифтом изложить, казалось бы, самое важное в своей философии искусства [как и этики. — А. П.], устраняющее возможность разночтений. Такое впечатление, будто он сознательно не хочет быть понятым. Но его логика иная, она, похоже, такова: понимающие поймут без объяснений, а непонимающим ничего объяснить невозможно»81Арсланов В. Г. Отвергнутое начало. Философские основания русского искусствознания XIX века // Русское искусствознание. Дворянская культура. Идея мимезиса: в 2-х томах / Изд. подг. при участии А. П. Ботвина. — СПб. : Владимир Даль, 2024. — Т. 1. — С. 475..
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
 Основание теории «разумного эгоизма»
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»
Основание теории «разумного эгоизма»
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»
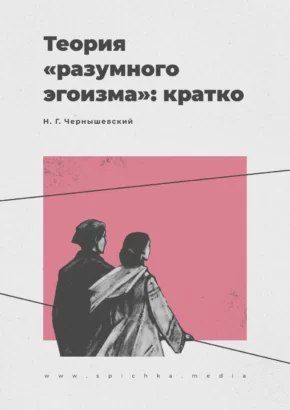 Теория «разумного эгоизма»: кратко
Как Чернышевский мог изложить, но не изложил теорию «разумного эгоизма»
Теория «разумного эгоизма»: кратко
Как Чернышевский мог изложить, но не изложил теорию «разумного эгоизма»
 Йорис Ивенс и реализм в кино
Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра
Йорис Ивенс и реализм в кино
Выясняем, есть ли в кино объективная истина, — на примере творчества Йориса Ивенса, голландского режиссёра
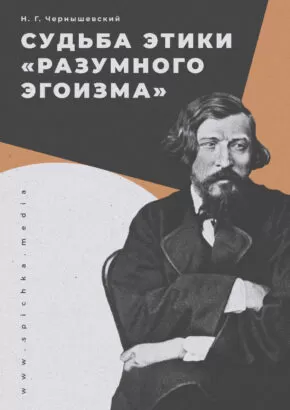 Судьба этики «разумного эгоизма»
Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма
Судьба этики «разумного эгоизма»
Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма