
Судьба этики «разумного эгоизма»
Содержание
Как ошибаются исследователи Чернышевского и чем его понимание эгоизма, добра и зла может быть полезно для марксизма
Теория «разумного эгоизма» гласит: каждый человек эгоистичен, альтруизм невозможен, а людям, чтобы общество развивалось, нужно разумно понять свой эгоизм; действовать так, чтобы личные интересы соответствовали общим интересам.1«Эгоизма теории (в этике) — этич. концепции, в основе к-рых лежит принцип эгоизма. В таких теориях можно выделить два осн. аспекта — филос-натуралистический и этико-нормативный. В основании первого лежит представление, что человек — эгоист по природе и может действовать только из собств. интереса, из прирожденного ему стремления к наслаждению, счастью (см. Гедонизм, Эвдемонизм), славе и т. п., способен повиноваться требованиям морали лишь постольку, поскольку это в конечном итоге будет способствовать его выгоде. Второй аспект — собственно нравств. учение, провозглашающее следование “разумно понятому” эгоизму единственным подлинно моральным принципом, исключающим насилие над природой человека, обман и лицемерие» (Дробницкий О. Г. Эгоизма теории // Философская энциклопедия: в 5-ти томах. — М. : Сов. энциклопедия, 1960–1970. — Т. 5. — С. 534.).
В пятитомной «Философской энциклопедии» читаем: «Своеобразной попыткой спасти принцип “разумного эгоизма” явилась этика русских революционных демократов, которые интерпретировали его как наиболее последовательное служение обществу и прогрессу, поскольку оно-то и приносит высшее удовлетворение»2Дробницкий О. Г. Эгоизма теории // Философская энциклопедия: в 5-ти томах. — М. : Сов. энциклопедия, 1960–1970. — Т. 5. — С. 534–535..
Николай Гаврилович удивился бы этой мысли, ведь он нигде не разъяснял принцип «разумного эгоизма» и не стремился его «спасти». Даже словосочетание «разумный эгоизм», насколько я знаю, он ни разу не употребил.3Вероятно, его впервые употребили исследователи жизни и творчества Чернышевского, когда пытались ёмко выразить смысл его этических взглядов — во многом удачно, но в главном неверно, о чём — далее.
В небольшом тексте я 1) объясняю, в чём ошибаются исследователи, когда изучают мировоззрение и, в частности, этические взгляды Чернышевского; 2) предполагаю, насколько сложны, но и полезны для марксизма его этические понятия, и 3) определяю суть своих следующих статей.
Исследователи о взглядах Чернышевского
Мыслители, которые изучали и критиковали взгляды Николая Гавриловича, — богослов Памфил Юркевич, Георгий Плеханов, историк и революционер Юрий Стеклов, другие мыслители, умершие и здравствующие4Ниже я буду неоднократно ссылаться на достойные работы исследователей, которые изучали мировоззрение Чернышевского. Но таких работ, как мне показалось, было немного., — кое в чём верно подмечали и подмечают изъяны и достоинства философских идей Чернышевского, но обычно рассматривали и рассматривают их застывшими, словно полагая, что они не менялись во времени5Юркевич, например, в статье «Из науки о человеческом духе» (1860 г.), где критиковал философские взгляды Чернышевского, рассматривал их в рамках полемической статьи «Антропологический принцип в философии» (1860 г.), не удосуживаясь прочитать другие статьи Николая Гавриловича того времени.
Работы Стеклова — за методологический подход, который в них применялся, — заслуженно критиковались советскими исследователи. К примеру, редакция «Литературного наследства» писала в предисловии третьего тома своего журнала, где впервые были опубликованы некоторые тексты Чернышевского: «Тем самым — разумеется наперекор собственному желанию — автор [Стеклов. — А. П.] продолжает дело царской цензуры, стремившейся скрыть подлинного Чернышевского от трудящихся масс. Конечно, Ю. М. Стеклов не хотел этого, но это не изменяет ни на йоту объективного значения его небрежного отношения к текстам Чернышевского» (Запрещённые цензурой тексты Н. Г. Чернышевского // Литературное наследство / Редкол.: Л. Авербах и др.; Отв. ред. И. Ипполит; Зав. ред. И. Зильберштейн. — М. : Журнально-газетное объединение, 1932. — Т. 3. — С. 76.).
С оценкой, которую дала редакция «Литературного наследства» монографии Стеклова, соглашался доктор философских наук Усер Розенфельд: «Если монография Стеклова самым выгодным образом отличалась охватом материала и скрупулёзностью исследования, то с его концепцией вряд ли можно согласиться… Стеклов стремится модернизировать мировоззрение главы русской революционной демократии [справедливости ради, на мой взгляд, присуждение этого титула Н. Г. — тоже “модернизация” его мировоззрения и биографии. — А. П.]. Слабые стороны воззрения Чернышевского смягчаются, его утопизм затушёвывается. Усиленно подчёркивается автором материализм социологической концепции Чернышевского» (Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский : Становление и эволюция мировоззрения / Ред. И. А. Чернов. — Минск : Вышэйш. шк., 1972. — С. 17.). 6Я — к своей радости — увидел похожий вывод в книге Розенфельда: «…пожалуй, основным недостатком обобщающих исследований о Чернышевском является, как правило, статичное рассмотрение его мировоззрения. В исследованиях, зачастую в одном месте, для одного вывода находим мысли молодого семинариста или студента наряду с идеями зрелого периода (60-е годы), а также наиболее рациональные выводы 70–80-х годов (противоречия и отступление [? — А. П.] Чернышевского этих лет остаются, как правило, вне поля зрения» (Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский : Становление и эволюция мировоззрения / Ред. И. А. Чернов. — Минск : Вышэйш. шк., 1972. — С. 21.)..
Я опишу несколько примечательных работ этих авторов и объясню, почему Николай Гаврилович во многом не понят ими.
Этика Чернышевского в царской России
До революции 1917 года лишь Плеханов и Стеклов — скорее, волей случая — смотрели на философские и, в частности, этические взгляды Чернышевского в развитии. Изредка они это делали удачно, чаще — неудачно. Плеханов, критикуя теорию «разумного эгоизма» Николая Гавриловича, повторил — с небольшими, хотя и важными добавлениями — тезисы Юркевича7См. главу «Учение о нравственности» здесь: Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский [1909 г.] // Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 4. — С. 255–265.; а Стеклов скорее излагал, чем осмысливал её8См. главу «Этическая теория Чернышевского» здесь: Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах. — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 276–307..
Плеханов критиковал доказательство Чернышевского о присущей человеку эгоистичности. Георгий Валентинович был не согласен, что основанием даже самоотверженных действий «служит личный расчёт или страстный порыв эгоизма»9Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 284.. Николай Гаврилович обосновывал это тем, что человек, оценивая собственные поступки, всегда прибегает к словам «я», «меня», «у меня». Плеханов отвечал ему: «Из того, что сознание своего “я” никогда не покидает человека в его соображениях о своих действиях, вовсе ещё не следует, что все его действия эгоистичны»10Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский [1909 г.] // Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 4. — С. 261..
Юркевич ещё за полвека до Плеханова так же критиковал мысль Чернышевского, что эгоизм присущ «натуре» человека: «Сочинителю хотелось бы, чтобы мы выключили из нашей деятельности наше я, которое, однако ж, есть источник этой деятельности; ему хотелось бы, чтобы мы выключили из нашей жизни наши радости и страдания, без которых, однако ж, и эта жизнь не была бы наша…»11Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 186.
Юркевич и Плеханов не заметили, что Чернышевский в статье, где приводил доказательства эгоистичности человека, и в других сочинениях приблизительно того же времени не только признавал альтруизм, но и критиковал свою позицию о том, что в основе поведения людей «…лежит мысль о личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое эгоизмом»12Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 283. 13Цитирую свою ещё не вышедшую статью: «”Расчёт” Чернышевского должен был перерасти себя и стать чувством нового порядка. Так и произошло потом, когда Чернышевский в 1872 году, находясь в ссылке, писал сыновьям: “…научная истина о всех честных и добрых личных чувствах: это чувства, имеющие непреодолимое свойство расширяться с любимого нами человека на всех людей”…».
Стеклов в двухтомной монографии и первого, и второго издания ограничился общими выводами о мировоззрении Чернышевского. Он писал: «Основным недостатком морали разумного эгоизма являются перевес в ней рационалистического начала и отсутствие исторической точки зрения»14Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах. — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 301. — или: «Недостатки этической системы Чернышевского связаны были с его общими историко-философскими взглядами, которые ему, к сожалению, не удалось развить до конца»15Стеклов Ю. М. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах. — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928. — Т. 1. — С. 306..
Стеклов был прав, но он не объяснял, почему Николай Гаврилович допускал в своём учении тот же «перевес рационалистического начала» — в разные годы по-разному и часто невольно. В монографии Стеклов лишь передал воззрения тех мыслителей, на деятельность которых равнялся Чернышевский, и почти не выдвигал критических суждений о теории «разумного эгоизма».
Этика Чернышевского в Советском Союзе
Советские учёные относились к Чернышевскому, как и к Ленину, с благоговением. Это не плохо, когда касается политики или восприятия истории, но не когда касается научного исследования. Владимир Ильич неоднократно говорил о Чернышевском — прямо или иносказательно — как о человеке, который «…стоял во главе немногочисленного тогда отряда революционеров»16Ленин В. И. Крестьянская реформа // Полное собрание сочинений / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — 5-е изд. — М. : Госполитиздат, 1958–1965. — Т. 20. — С. 174.. Мысль Ленина подхватили историки, которые писали, что Николай Гаврилович «…был смелым, мужественным, непреклонным, стойким революционером»17Мещеряков Н. Л. Ленин о Чернышевском // Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 9..
Знакомясь с советскими работами о Чернышевском, стоит учитывать их догматичность. Даже в двух исследованиях докторов философских наук — Усера Розенфельда и Игоря Пантина, — где они, казалось бы, критически смотрели на мировоззрение Николая Гавриловича, отражались штампы советской идеологии.
Монография Розенфельда вышла в 1979 году, и она «…посвящена анализу становления и эволюции мировоззрения Чернышевского»18Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский : Становление и эволюция мировоззрения / Ред. И. А. Чернов. — Минск : Вышэйш. шк., 1972. — С. 21.. Но в ней по большей части неудачно описывается развитие философских взглядов Николая Гавриловича.
К примеру, Розенфельд, критикуя исследователей прошлого за то, что они предвзято относились к деятельности Чернышевского, сам неоднократно был пристрастен к нему. Он вторил советским идеологам, утрируя революционность Николая Гавриловича, и будто не замечал изменений в его взглядах на общество.19Отрывок моей статьи, которая выйдет в «Спичке»: «Чернышевский, говоря в одних письмах о “вечных истинах” морали, в других, словно противореча себе, произносил приговор о ситуациях и поступках людей в их конкретности. Характерный, как мне представляется, пример этого — связанный с его сыном». Розенфельд называл Чернышевского «великим русским революционером» и говорил, что он «…страстно мечтал этот мир переделать, ибо был подлинным революционером, революционером слова и дела»20Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский : Становление и эволюция мировоззрения / Ред. И. А. Чернов. — Минск : Вышэйш. шк., 1972. — С. 59.. Хотя Николай Гаврилович являлся не «профессиональным революционером», а личностью «…гораздо более неординарной, чем это представлялось Ленину с высоты его “пролетарского” революционаризма»21Читай об этом здесь: Руденко Ю. К. Об одной ленинской цитате «из Чернышевского» // История и культура: [Альманах]. Вып. 11: Исследования. Статьи. Сообщения. — СПб. : изд-во СПбГУ, 2012. — С. 101–129..
Главный недостаток работы Розенфельда — и это он признавал — заключался в том, что в ней он занимался «философско-социологической концепцией» Чернышевского, а другие идеи его «…привлекались постольку, поскольку это было необходимо для выяснения философско-социологической основы его мировоззрения»22Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский : Становление и эволюция мировоззрения / Ред. И. А. Чернов. — Минск : Вышэйш. шк., 1972. — С. 21.. Розенфельд объяснил, как видоизменялись онтологические и гносеологические воззрения Николая Гавриловича, и намеренно не рассмотрел, как преображалась, например, его этическая теория.
Игорь Пантин во вступительной статье к двухтомнику сочинений Чернышевского 1986–1987 годов тоже пытался понять, как менялось его мировоззрение. Он изложил несколько метких наблюдений о теории «разумного эгоизма», одно из которых: «…”натура человека” фиксируется русским социалистом уже не только в биологических, но и в социальных категориях»23Пантин И. К. Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2-х томах / Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. — М. : Мысль, 1986. — Т. 1. — С. 51.. Но рассуждения Пантина об этической теории Чернышевского по большей части были общими, а кое-где — неточными или ошибочными. Приведу несколько примеров.
Пантин не проследил, как переплетались этические воззрения Чернышевского и философские взгляды Людвига Фейербаха, «учителя» Николая Гавриловича24Цитирую грядущую статью для «Спички»: «В 1873 году, в письме жене Ольге Сократовне и сыну Александру, он [Чернышевский. — А. П.] сожалел, что когда-то знал Фейербаха “чуть не наизусть” и давно не перечитывал его работ…». Пантин лишь оговаривался, что «Социологические идеи русского мыслителя… необходимо анализировать с учётом его своеобразной трактовки “антропологического принципа”»25Пантин И. К. Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2-х томах / Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. — М. : Мысль, 1986. — Т. 1. — С. 46..
В другом месте Пантин высказал неверное утверждение: «…этическая система “разумного эгоизма” носила рационалистический характер и не выходила за рамки идеализма»26Пантин И. К. Человек и действительность в философской концепции Н. Г. Чернышевского // Чернышевский Н. Г. Сочинения: в 2-х томах / Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др. — М. : Мысль, 1986. — Т. 1. — С. 65.. Эта мысль опровергается содержанием статьи «Антропологический принцип в философии» (1860 г.). В ней Чернышевский доказывал, что «…разнообразие явлений в сфере человеческих побуждений к действованию происходит из одной и той же натуры, по одному и тому же [«материалистическому». — А. П.] закону»27Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 283., что из-за бедности в обществе существует «девять десятых всего дурного»28Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 266., а расчёт всё же «бывает ошибочным»29Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 287.. Этические взгляды Чернышевского, конечно, не были «марксистскими», но они определённо «выходили за рамки идеализма».
Этика Чернышевского в светлой России настоящего
Я знаю лишь одного достойного исследователя, и то — советской «закалки», который пишет — не без лишних предубеждений — о творчестве и взглядах Чернышевского. Этого человека зовут Юрий Константинович Руденко. Он доктор филологических наук и в 2018 году, например, переиздал свою монографию об авторских смыслах романа «Что делать?»30Руденко Ю. К. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во Сергея Ходова, 2018. — 287 с..
Работы остальных здравствующих учёных о философском наследии Чернышевского неаккуратны в своих основаниях и выводах. Не хочу обобщать — может, я попросту не знаю грамотных специалистов, которые изучают мировоззрение Николая Гавриловича, — но приведу характерный пример.31Ещё два характерных примера, которые быстро находятся в интернете:
1. Кантор В. К. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? // Вопросы философии. — 2014. — № 3. — С. 95–104.
2. Мирасова К. Н. «Атлант расправил плечи» А. Рэнд и «Что делать?» Н. Г. Чернышевского как романы идеи «Разумного эгоизма» // Новое прошлое. — 2020. — № 1. — С. 180–192.
Высшая школа экономики воспитала доктора филологических наук Алексея Вдовина. Он считает, что Чернышевский в своей диссертации о проблемах эстетики развивал идеи не Фейербаха, а Руссо, и «Отсутствие новизны и научная несостоятельность диссертации выкупались её прямотой и радикальностью, публицистической односторонностью…»32Вдовин А. В. Чернышевский vs. Фейербах: (псевдо) источники диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2011. — Vol. 68, № 1. — С. 63. На 28 страницах Вдовин цитирует Руссо, Гегеля, Фейербаха, Фишера, Прудона и, выборочно ссылаясь на сочинения Чернышевского, заключает, что он «явно подтасовывал факты»33Вдовин А. В. Чернышевский vs. Фейербах: (псевдо) источники диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2011. — Vol. 68, № 1. — С. 41. и «…каждый раз, задним числом, переписывал своё понимание фейербаховской философии, порождая тем самым автобиографическую легенду»34Вдовин А. В. Чернышевский vs. Фейербах: (псевдо) источники диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2011. — Vol. 68, № 1. — С. 42.. Вдовин не пытается понять идеи Николая Гавриловича, не штудирует его рукописи, зато в духе модернизма отрицает доказанные истины.35Привожу в пример несколько научных трудов, где опровергаются выводы Вдовина:
1. Лебедев А. А. Учение Н. Г. Чернышевского о прекрасном и некоторые особенности его художественного метода: Дис. на соискание учён. степени кандидата филол. наук / Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : [б. и.], 1954. — 462 с.
2. Абрамович А. Ф. Н. Г. Чернышевский о категориях искусства: (Прекрасное, возвышенное, трагическое и комическое в действительности и в искусстве) : Из цикла лекций по спец. курсу «Н. Г. Чернышевский — литературовед и критик» / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. — Иркутск : [б. и.], 1956. — 112 с.
3. Астахов В. Г. Г. В. Плеханов и Н. Г. Чернышевский: О методол. основах плехановской оценки лит.-эстетич. теории Чернышевского / Таджик. гос. ун-т им. В. И. Ленина. — Сталинабад : [б. и.], 1961. — 344 с.
Вдовин говорит, что Чернышевский в диссертации опирался на идеи Руссо. Это верно, ведь Николай Гаврилович в дневниках и в письмах, в том числе конца 1840-х и середины 1850-х годов, не раз упоминал Руссо и других просветителей XVIII века36См. именные указатели 1 и 14 томов Полного собрания сочинений Чернышевского 1939–1953 гг.. Но это не значит, как пишет Вдовин, что диссертация Чернышевского «никак не связана»37Вдовин А. В. Чернышевский vs. Фейербах: (псевдо) источники диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2011. — Vol. 68, № 1. — С. 40. с идеями Фейербаха, которые Николай Гаврилович — Вдовин путается в критике — то ли превратно понял38«…идеи Фейербаха недостаточно отразились в диссертации просто потому, что диссертант усвоил их поверхностно, а спустя два года стал лучше их понимать» (Вдовин А. В. Чернышевский vs. Фейербах: (псевдо) источники диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2011. — Vol. 68, № 1. — С. 43.)., то ли не пытался понять39«Идеи чувственной эстетики Фейербаха либо не были поняты Чернышевским, либо оказались ему настолько чужды, что он даже не счёл нужным их упоминать [в авторецензии диссертации 1888 г. — А. П.]» (Вдовин А. В. Чернышевский vs. Фейербах: (псевдо) источники диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» // Zeitschrift für Slavische Philologie. — 2011. — Vol. 68, № 1. — С. 51.)..
Хорошо ли Чернышевский понял идеи Фейербаха и пытался ли он их понять — вопрос для отдельной статьи. Скажу наперёд — и пока бездоказательно, — что он понял их хорошо, во всяком случае в области этики.40Цитирую свою ещё не вышедшую статью: «Говоря, что природа и человек, в сущности, сходятся в самих себе, ведь природа составляет основу человеческого духа, Фейербах, как и Чернышевский, принявший его позицию о натуре человека, соглашался: неэгоистично, то есть несообразно с природой, или со своим разумом, человек поступать неспособен». Лишь опровергну вывод Вдовина, что диссертация Николая Гавриловича «никак не была связана» с идеями Фейербаха. Привожу отрывок из неё: «Воззрение на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками, и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом оно связано с двумя системами идей — начала нынешнего века, с одной стороны, последних десятилетий — с другой».41Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 80. Здесь подразумеваются «система идей» Гегеля и «система идей» Фейербаха соответственно.
Если ознакомиться с работами Чернышевского разных лет его жизни, станет неловко говорить и о том, что он «подтасовывал факты» и «задним числом» убеждал соратников в своей приверженности Фейербаху. Процитирую три его сочинения.
Первое — дневник 1849 года: 23 июля Николай Гаврилович «Подождал до 12 в библиотеке, где читал о Фейербахе у Эрша42«Всеобщая энциклопедия науки и искусства» Иоганна Эрша и Иоганна Грубера (1818–1889 гг.). в статье Philosophie…»43Чернышевский Н. Г. Дневник 22-го года моей жизни (1849–1850) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 304.
Второе — статья «Полемические красоты» 1861 года, в которой Чернышевский обращался к литературному критику Степану Дудышкину: «Вы можете осуждать меня за то, что я признаю прогресс в науке и нахожу последнее слово её [Фейербаха. — А. П.] самым полным и справедливым. Это как вам угодно. Быть может, по-вашему, старое лучше нового. Но допустите же возможность думать иначе»44Чернышевский Н. Г. Полемические красоты // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 771..
Третье — письмо Чернышевского 1877 года, написанное через 30 лет после защиты диссертации, где он говорил сыновьям: «…гораздо лучше, нежели от меня самого, Вы можете узнать общий характер моего мировоззрения от Фейербаха. — Это взгляд спокойный и светлый»45Чернышевский Н. Г. Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 11 апреля 1877 года // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 15. — С. 25..
Пусть Вдовин откроет текстологические комментарии к любым изданиям сочинений Чернышевского. Добросовестные люди, которые не стремятся к «открытиям», убедят его, что обвинять Николая Гавриловича в мифотворчестве глупо до неприличия.
И по сей день никто — тем более Вдовин, — кроме Плеханова, не рассмотрел статью Юркевича «Из науки о человеческом духе» (1860 г.)46Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой ; вступ. ст. и примеч. А. И. Абрамова. — М. : Правда, 1990. — С. 104–193., и никто — даже Плеханов — не рассмотрел статью историка Виктора Аскоченского «Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека» (1862 г.)47Аскоченский В. И. Физиологический способ превращения человека в животного, и животного — в человека // Домашняя беседа. — Вып. 31–35. / Ред.-изд. В. И. Аскоченский. — СПб. : тип. Штаба военн.-учебн. завед., 1862.. Но только в них серьёзно критиковалось сочинение «Антропологический принцип…» (1860 г.)48Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 7. — С. 222–295., где Николай Гаврилович доказывал теорию «разумного эгоизма». Изучить эти статьи — значит узнать, где Чернышевский мог ошибаться в своих этических понятиях.
Этика Чернышевского в смежных областях знания
Чтобы понять теорию «разумного эгоизма» Чернышевского, стоит изучить исследования:
- О его художественных произведениях, ибо в них выразились его взгляды на жизнь: тот же роман «Что делать?» (1863 г.) был манифестом этики «новых людей»;
- Об эстетических воззрениях Чернышевского, так как они были связаны с его этическими идеями: он отстаивал мысль, что «…наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти [художественные. — А. П.] качества, <…> непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека»49Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 115..
Литературоведы — до революции и после неё — много чего добились в определении художественного метода Николая Гавриловича и эстетического своеобразия его поэтических произведений50На мой взгляд, после 1991 г. в России перестали выходить серьёзные исследования о художественных произведениях Чернышевского. Стоит опираться на советские работы по этой теме; доктор филологических наук Юрий Константинович Руденко приводил основные из них здесь: Руденко Ю. К. Чернышевский-художник: (Основные тенденции и итоги изучения) // Русская литература. — 1978. — № 3. — С. 174–187., но мало чего — в области истории философии. Они выводили этические взгляды Чернышевского больше из его беллетристических сочинений, чем из его статей.
В литературном наследстве, однако, хорошо изучена эстетическая концепция Чернышевского51Среди множества работ выделю три, в которых, на мой взгляд, в том или ином отношении удачно осмыслена эстетическая теория Чернышевского:
1. Статья «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского» 1897 г. из собрания сочинений Плеханова (Избранные философские произведения: в 5-ти томах / Ред. коллегия: М. Т. Иовчук и др. ; подготовка текстов и примеч. Е. С. Коц и др. ; вступ. статья В. Фоминой. — М. : Госполитиздат, 1956–1958. — Т. 5. — С. 238–281.).
2. Иков В. К. Эстетика Н. Г. Чернышевского / Портрет и обложка: Н. Ш. — М. : Изд-во Ассоциации художников революции, 1929. — 67 с.
3. Соловьёв Г. А. Чернышевский о прекрасном, художественности и искусстве / Ред. С. Гиджеу. — М. : Худож. лит., 1980. — 190 с. — по нескольким причинам.
Чернышевский написал магистерскую диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности»52Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 5–92., где изложил своё видение прекрасного — как он понимал его в 1855 году.
Николай Гаврилович был литературным критиком и совершенствовал «…собственное отношение к оцениваемым литературным явлениям, причём это отношение являлось одной из типичных для его эпохи общественных позиций»53Руденко Ю. К. Чернышевский-художник: (Основные тенденции и итоги изучения) // Русская литература. — 1978. — № 3. — С. 181.. Когда Николай Гаврилович вершил суд над поэтическими произведениями Александра Островского54Напр.: Чернышевский Н. Г. Бедность не порок // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 232–240., Льва Толстого55Напр.: Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 421–431., Ивана Тургенева56Напр.: Чернышевский Н. Г. Русский человек на rendez-vous // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 5. — С. 156–174. и других писателей, он развивал эстетические идеи, которые перенял от Виссариона Белинского и Александра Герцена57В «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855 г.) Чернышевский так отзывался о Белинском: «…кто не в состоянии разделять зрелых и самостоятельных убеждений Белинского, какие выражал он в последнее время, тому принесёт пользу чтение его статей в хронологическом порядке, начиная с тех, которыми сам Белинский впоследствии был недоволен: кто стоит ещё слишком низко, тому необходимы лестницы, чтобы стать в уровень с своим веком» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 3. — С. 210.);
Чернышевский с уважением относился ко взглядам Герцена: например, согласно второй тетради его «Дневника моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье» (1853 г.), однажды он сказал своему товарищу по семинарии Фёдору Палимпсестову: «Ты производишь на меня то же впечатление, как человек, который стал бы мне говорить, что Вольтер, Луи Блан и Прудон, Искандер [псевдоним Герцена. — А. П.] и Гоголь ему не нравятся, потому что слишком много в них цинизма, а что Булгарина и Масальского читает он с большим удовольствием» (Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 1. — С. 491.).. Немудрено, что чаще всего он писал об истории и теории искусства.58Хотя сочинений, где осмысливались проблемы эстетики непосредственно, у Чернышевского было немного: «Критический взгляд на современные эстетические понятия» (1854 г.), «Возвышенное и комическое» (1854 г.), магистерская диссертация «Эстетические отношение искусства к действительности» (1855 г.), предисловие к третьему изданию диссертации (1888 г.), авторецензия на диссертацию (1888 г.).
Учёные могут хвалиться постижением эстетической концепции Чернышевского, но они, пытаясь оценить его этические взгляды, искажают или не понимают теорию «разумного эгоизма» в толковании Николая Гавриловича.
Особенности взглядов Чернышевского
Чернышевский в 1888 году, в авторецензии на диссертацию «Эстетические отношения…» (1855 г.), говорил, что «Первая задача истории [как науки. — А. П.] — передать прошедшее; вторая, — исполняемая не всеми историками, — объяснить его, произнесть о нём приговор…»59Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 111. Мало кто в деталях объяснял, откуда произошли понятия Чернышевского о добре и зле, о разумном и жалком эгоизме и тем более критически оценивал их.60Добавлю к рассуждениям выше несколько слов о монографии, посвящённой жизни и творчеству Чернышевского, Юрия Стеклова (Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность: в 2-х томах — 2-е изд., испр. и доп. — М. ; Л. : Гос. изд-во, 1928.) В ней он пытался определять его философские и, в частности, этические взгляды. Но он, как мне показалось, небрежно сравнивал их со взглядами мыслителей прошлого и словно не пытался понять логику, которой руководствовался Николай Гаврилович в своих размышлениях.
Хотя есть — помимо упомянутых работ — примеры достойных оценок мировоззрения Чернышевского. Например, его этические воззрения критически, хотя и частично, объяснялись в статье доктора филологических наук Лидии Михайловны Лотман из сборника статей 1969 г. (Социальный идеал, этика и эстетика Чернышевского // Идеи социализма в русской классической литературе / Ред. Н. И. Пруцков. — Л. : Наука, 1969.— С. 184–228.) и в брошюре кандидата философских наук Ирины Борисовны Меснянкиной, вышедшей в 1987 г. (Меснянкина И. Б. Поиски нравственной свободы: (анализ этических идеалов Н. Г. Чернышевского и Ф. М. Достоевского) : из цикла «История этических учений» / Ред. Ю. Н. Медведев. — М. : Знание, 1987. — 62 с.).
Чернышевский не раз, особенно в сибирских письмах родным, признавал, что он применял метод Фейербаха к вопросам, которые ещё не решила наука.61В этом и в следующих абзацах я привожу отрывки своих ещё не вышедших статей. «В авторецензии на диссертацию “Эстетические отношения искусства к действительности” (1888 г.) Чернышевский признался, что пытался развивать учение Фейербаха: “Лет через шесть после начала его [Чернышевского; Н. Г. пишет о себе. — А. П.] знакомства с Фейербахом представилась ему житейская надобность написать учёный трактат. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знаний, не входившим в круг исследований его учителя”». Ссылаясь на данные естествознания, он утверждал, что человеку свойственно быть эгоистичным62«Главная посылка теории “разумного эгоизма” — мысль, что природа человека эгоистична. Откроем статью Чернышевского “Антропологический принцип в философии” (1860 г.): “При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские, и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчётом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия”»., а добро — это предельная степень пользы для некоторых людей63«Критерий, которым люди руководствуются, пытаясь понять, что перед ними — добро или зло, по мнению Николая Гавриловича в 1860 году, действительно, есть полезность, то есть исходя из пользы для себя люди оценивают поступки других: “…понятие добра вовсе не расшатывается, а, напротив, укрепляется, определяется самым резким и точным образом, когда мы открываем его истинную натуру, когда мы находим, что добро есть польза”. Но Чернышевский не считал, что всякая польза есть добро и всякий вред — зло…». Но почему Николай Гаврилович так считал, где в своих заключениях он был неправ принципиально, а где — лишь в формулировках или в предположениях, остаётся непонятным.
Чернышевский, вопреки господствующему мнению, большую часть жизни, после середины 1840-х годов, не был революционером ни в политике, ни в мысли: он боялся потрясений в обществе и пытался отсрочить их64«Являются ли “конвульсии”, как Чернышевский называл революции и восстания, хорошими средствами для достижения счастья людей, в понимании позднего Николая Гавриловича, — скорее нет, чем да, так как он никому не желал встречаться с ними, но их действенность, при некоторых условиях и к своему сожалению, он принимал»..
Николай Гаврилович не был и закоренелым материалистом — во всяком случае, в 1840–1850-е годы, когда его философские взгляды только определялись. Например, в то время он писал: «…конечный результат исторического развития состоит в теснейшем сближении всех членов нации в одно плотное духовное целое»65Чернышевский Н. Г. Песни разных народов. Пер. Н. Берга // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 295. — или вторил европейским просветителям XVIII века, доказывая, что человек от рождения склонен творить добро66«В 1857 году Чернышевский полагал, что человек — существо, доброе от природы. Хотя, подождите, “наклонное уважать и любить добро”, как и сказано в цитате, не равняется “быть добрым от природы”, это так. Но всё-таки Чернышевский говорил, что человек никогда — “добровольно и свободно” — не предпочитает зло добру…».
Чуть ли не в те же годы Чернышевский смотрел на общество и на некоторые явления человеческой жизни, как бы сейчас выразились, по-марксистски. Так, он соглашался, что прогресс истории не всегда осуществляется благоприятно для человечества, то есть признавал неизбежность революций и восстаний67«Три года спустя, в 1853 году, Чернышевский, исходя из его дневника, сказал Ольге Сократовне, тогда ещё невесте его: “Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю скорее. А если вспыхнет, я приму участие… Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня”…». Ещё он утверждал, что люди становятся добрыми или злыми в зависимости от того, как они воспитываются и живут в обществе68«Неразумно гадать, почему Чернышевский был непоследовательным, говоря в диссертации и в нескольких статьях одно, а в “Антропологическом принципе…” — другое. Чернышевский своей непоследовательностью не столько опровергал теорию “разумного эгоизма”, сколько доказывал на примерах, по выражению Гегеля, “хитрость разума”, которую не раз подмечали исследователи человеческой души»..
Чернышевский, с одной стороны, оставался в границах созерцательного материализма, истины которого он черпал преимущественно из сочинений Фейербаха, а с другой стороны — развивал их. В некоторых аспектах Николай Гаврилович даже приближался к открытию исторического материализма, как позже назвали этот взгляд на историю.69«Чернышевский, помимо естественных, признавал нравственные потребности человека. Тогда, по логике Николая Гавриловича, эгоизм человека должен определяться не одной естественной потребностью — избеганием боли; он должен определяться и его нравственными потребностями, ведь только “одна половина средств принадлежит этому разряду [внешней природе. — А. П.]”, что содержательно было новым, поскольку не встречалось в сочинениях Фейербаха…»
О следующих статьях в «Спичке»
Историки, к сожалению, почти не знают Чернышевского и не проследили в должной мере, как рождались и менялись его философские и, в частности, этические взгляды — с середины 1840-х по конец 1880-х годов.
Сделать это и объяснить, где Николай Гаврилович ошибался, а где — нет, как он сам полагал, «…будет лучшей критикою; потому что открыть во лжи истину или показать, из какой истины выведена ложь, значит — уничтожить ложь»70Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Полное собрание сочинений: в 15-ти томах / Под общ. ред. В. Я. Кирпотина и др. — М. : Гослитиздат, 1939–1953. — Т. 2. — С. 153.. Или, как писал доктор филологических наук Борис Эйхенбаум применительно к истории литературы: «”Преодолеть” какой-нибудь художественный стиль — значит понять его. Художественное явление живо до тех пор, пока оно непонятно, пока оно удивляет. Критика удивляется, наука понимает»71Эйхенбаум Б. М. Молодой Толстой. — Петербург; Берлин: З. И. Гржебин, 1922. — С. 9..
Сделать это — значит доказать, почему этическая концепция Чернышевского, его понятия о добре и зле, о разумном и жалком эгоизме, несмотря на некоторую непоследовательность, были в основном верны и почему на них можно положиться, решая проблемы этики.
Если опираться на наработки Чернышевского, получится:
- Определить понятия добра и зла, какие они есть в обществе, то есть объективно, независимо от воли отдельного человека;
- Разграничить понятия эгоизма и альтруизма, что уже пытался осуществить Плеханов.
Николай Гаврилович был мыслителем, который жил и творил в эпоху журнальной полемики 1850–1860-х годов в России. В пылу революций на земле и борьбы в умах его то восхваляли, то уничижали. Я тоже, следуя мыслителям прошлого, не буду свободен от идеологических стеснений, но попробую сделать то, что не сделали до меня исследователи творчества Чернышевского.
Я, публикуя статьи в «Спичке»:
- Системно изложу теорию «разумного эгоизма», опираясь на малоизвестные источники — например, на письма Чернышевского из Сибири, которые опубликованы, но почти не изучены;
- Определю, на каких идеологических основаниях зиждилось мировоззрение Чернышевского, и в подробностях прослежу, как развивались его философские, а если брать у́же — этические взгляды;
- Упорядочу доводы Николая Гавриловича в обоснование теории «разумного эгоизма», выявлю их положительные и негативные стороны, осмыслю его понимание добра и зла.
Одновременно с этим я буду узнавать, как современники критиковали взгляды Чернышевского, и рассуждать, чем его теория может быть полезна для марксистской этики.
Напиши под постом в телеграм-канале, мы ответим
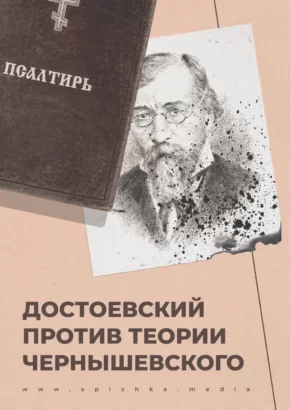 Достоевский против теории Чернышевского
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
Достоевский против теории Чернышевского
Достоевский критикует Чернышевского: эгоизм и роль личности в истории
 Добро и зло Чернышевского
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
Добро и зло Чернышевского
Что такое добро? Что такое зло? Позиция Чернышевского и наши мысли о ней
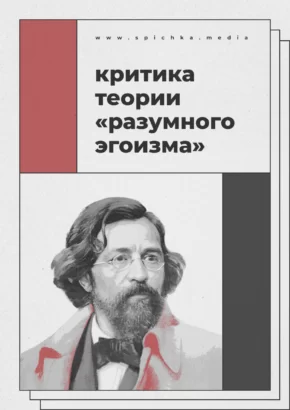 Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
Критика теории «разумного эгоизма»
В чём верна, а в чём неверна теория «разумного эгоизма» Чернышевского
 Основание теории «разумного эгоизма»
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»
Основание теории «разумного эгоизма»
На какие идеи Фейербаха опирался Чернышевский, когда защищал теорию «разумного эгоизма»